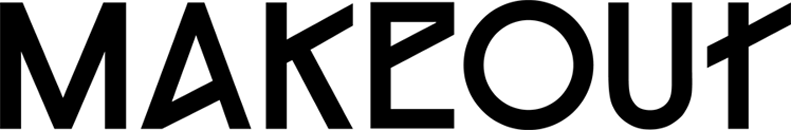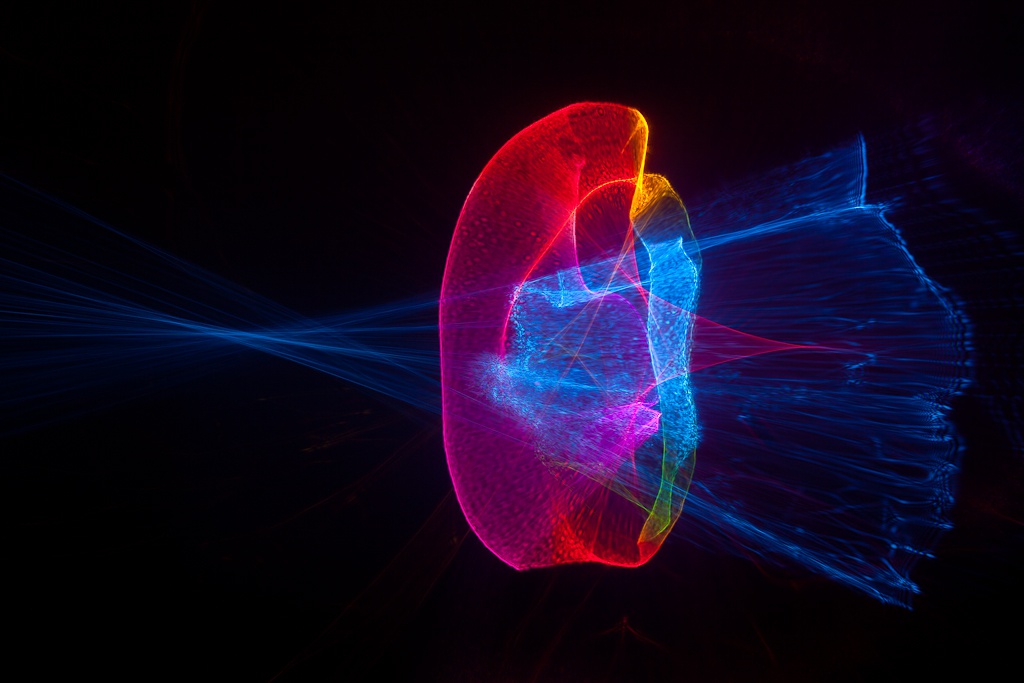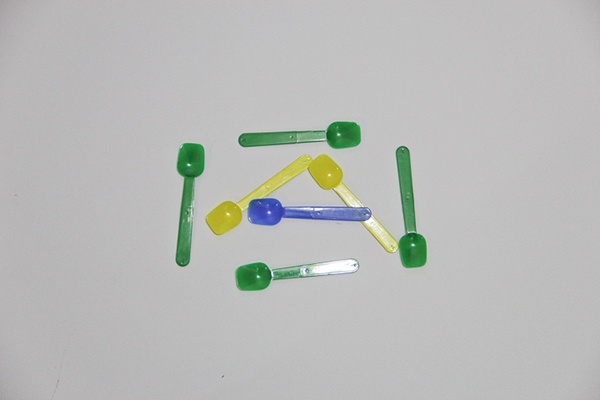© Levi Hastings
Сколько себя помню, я был влюблен в культ маскулинности. Я боготворил мужчин, которых видел в книгах, на экране и в реальной жизни. Я был в восторге от того, как им доставалось абсолютно все, что мог предложить мир. Глядя на знаменитых голливудских актеров разных эпох — от Бастера Китона до Майкла Китона — я испытывал восторг от самого факта, что живу на этом свете. «Представь, что значит быть им, — думал я, — представь, что значит быть тем, кому открыты абсолютно все двери».
Не помню, когда именно я, будучи рожденным в женском теле, принял решение представляться мужчиной. Однажды я просто начал использовать мужские имена и убеждать одноклассников и друзей семьи в том, что я мальчик. Я бы не назвал это выбором как таковым, а, скорее, чем-то естественным, честным — по крайней мере, отчасти.
Я говорил: «Я мальчик». Большинство людей, взрослых и детей, в ответ нервно смеялись. Некоторые говорили, что я не прав, но это меня не трогало. Едва научившись составлять слова в предложения, я твердо захотел оставить назначенный мне при рождении гендер позади.
Идея маскулинности привлекала меня не потому, что я считал, будто это круто, весело или особенно познавательно. Просто я знал лишь один способ избежать предназначенной мне женственности: мухлеж.
Как транс*ребенок, которому было неизвестно понятие «транс», я основывался на идее, что все вокруг были идиотами, не понимавшими, что я мальчик. Я думал, что в какой-то момент до них дойдет — но, конечно же, этого не произошло. Я, тем не менее, продолжал изучать мужчин, пытаясь усвоить все, что могло бы мне помочь. Как надо выглядеть, как себя вести, как просто существовать. Насколько уязвимым, вспыльчивым и жестоким позволено быть. Я хотел заполучить все характерные маскулинные черты, о которых узнал, пока рос — злость, тягу к насилию, угрюмость — чтобы люди вокруг не смели сомневаться: я такой же парень, как и все другие.
С того времени я сильно изменился. Я работал над тем, чтобы перестать смотреть на мир через призму бинарности, приводившую меня в детстве в ужас: мужское/хорошее, женское/плохое, мужское/счастливое, женское/несчастное. И по мере того, как я учился жить и справляться со стыдом, я смог сформировать такую идентичность, где я не был ни мужчиной, ни женщиной, но порой был ими обоими.
Как бы там ни было, меня все же сформировала культура маскулинности, базирующаяся на идее, что мужчины в какой-то мере особенные, что они прекрасны и они лучше. Правда, после откровений кампании #MeToo восхищаться классическими концепциями мужественности стало гораздо сложнее.
Я не считаю, что существует хоть какое-то оправдание преступлениям на сексуальной почве. Но я отчетливо вижу, что наша культура уравнивает маскулинность с насилием и агрессивным поведением. Маскулинность позиционируется как приз, который, тем не менее, невозможно выиграть, каким бы жестоким, соблазнительным и свирепым ты ни был, сколько бы раз ты ни воевал.
Я не один такой, кто одновременно жаждет получить преимущества, которые предоставляет маскулинность, и относится к ним с подозрением. Писатель Томас Пейдж МакБи (Thomas Page McBee) убедительно рассуждает о внутренней жестокости, встроенной в маскулинные идентичности. «Похоже, в какой-то момент мужчины просто обязаны с кем-то или чем-то сразиться. Всю свою жизнь, и особенно в течение четырех лет после начала приема тестостерона, я сражался: с самим собой, с целым миром и за свое место в этом мире, — написал он в журнале «Quartz». — Маскулинность и агрессия, кажется, необратимо связаны. Но почему?»
В передаче «Nanette», выходящей на Netflix, лесбиянка и комикесса Ханна Гэдсби говорит о своем маскулинном стиле одежды и в то же время обличает культуру токсичной маскулинности: «Вам, парням, необходима хорошая ролевая модель, и немедленно». В квир-сообществе мы берем от стиля и образа «мужественности» все необходимое и приспосабливаем это под себя. В то же время мы детально исследуем наши отношения с маскулинностью — и я не исключение. Мне всегда казалось, что маскулинность — тупиковый путь. Но я все равно ему следовал и следую до сих пор.

Последний раз, когда я жил без острой осведомленности о своем теле, случился в мои восемь или девять лет: в десять появились отвратительные первые звоночки полового созревания. Я мог бы сказать, что ненавидел растущую грудь, начавшуюся менструацию и гормональные скачки — но если честно, я находился в таком глубоком отрицании, что просто заблокировал все происходящее. Помню, что пребывал в каком-то оцепенении, не осознавая своего тела, пока одноклассни_цы не посоветовали мне побрить подмышки и надеть лифчик.
Странно, но я не был так уж обескуражен тем, что говорили мне другие люди и как они заставляли меня чувствовать себя бракованным. По большей части я хотел знать, что за чертовщина происходит и смогу ли я ее пережить.
Как только на горизонте замаячила взрослая жизнь и все с ней связанное, я видел в ней лишь тюрьму. Структуру, где все, что бы ты ни делал со своим телом, будет превратно истолковано как мужское или женское, принадлежащее исключительно к одному конкретному гендеру. Что-то конечное; точка невозврата.
Половое созревание превращает тело в клетку, в которой ты вынужден жить до конца своих дней.
Сейчас, когда я думаю о половом созревании, то даже не могу вспомнить, что происходило со мной в физическом плане. Я помню, как именно пытался сбежать от реальности своей телесности, как без конца смотрел фильмы, особенно немое кино. Я хотел, чтобы тело перестало довлеть над моей жизнью — поэтому и обратился к немым комедиям, в которых тела, будучи центральным элементом, тем не менее, из-за ускоренного воспроизведения казались чем-то незначительным, позволяя актерам чуть ли не преодолевать силу гравитации. Эти фильмы, весьма важные для меня, я использовал как доказательство тезиса: «Смотрите: тело не обязательно должно быть клеткой». Алгоритм маскулинности можно взломать и переписать как угодно, и все же в этих фильмах я не видел ни одной женщины, которая бы победила гравитацию.
Я всегда восхищался харизмой актеров-мужчин: тем, как они владели собственным телом и как, несмотря на свою часто неприглядную внешность, они вызывали в моей душе отклик. Думая о понравившихся мне актерах, я сразу задавался вопросом: «Как кто-то настолько непривлекательный попал в кино?» И когда я начал смотреть внимательнее, я понял, что каждый из них так или иначе убеждал меня: для того, чтобы быть актером кино, им не нужно, как женщинам, демонстрировать «товар лицом». По какой-то причине их безобразность не имела значения. И более того: магическим образом, чем дольше я на них смотрел, тем красивее они становились.
В фильмах моего детства некрасивый главный герой-мужчина неизменно сходился с конвенционально красивой главной героиней. И благодаря этой закономерности я осознал, что способность изменять и преодолевать границы телесности не является какой-то особой мужской суперсилой — просто лишь мужчинам позволено ей пользоваться. Женщинам же — по крайней мере, в медиа — даже не дают шанса.
Я отчетливо понял, как видят женщин в этом мире: как жертв, сексуальные объекты и еще целый набор категорий, которыми я быть не хотел. Так что я сделал очевидный вывод: женственность не мое. А ведь я и так считал присвоенный мне при рождении пол ошибкой.
Еще ребенком я отказался от мысли, что смогу когда-либо быть женщиной и при этом построить такую жизнь, какую хочу, стать таким человеком, каким хочу. Я знал, в каком сексистском обществе живу, и мир мужчин символизировал для меня свободу. Их тела не были скованы снисходительностью и насилием. Я видел возможность выбора.
Когда, будучи подростком, я сделал камин-аут как трансгендерный человек, мне открылась гораздо менее романтичная сторона мужественности: нелепые ритуалы, основанные на грубости, конкуренции и рукоприкладстве, заложенные в нас природой, как заверяют мужчин. И они в это верят. Мы в это верим.
«Ты должен кое-что понять, — сказал однажды мне отец, уже после того, как я совершил перед ним камин-аут, — ни один мужчина на самом деле не считает, что достиг идеала маскулинности — это всегда лишь смутная перспектива».
Мне стало ясно: с чего еще маскулинности быть настолько жестоким и агрессивным образом жизни, если не из-за культурного императива постоянно утверждать себя в роли мужчины? Утверждение женщины — в ее опыте. Для мужчины же опыта недостаточно. Возможно, ты станешь мужчиной, сражаясь с неприятелем. Возможно, ты станешь мужчиной, если будешь успешен. Возможно, ты станешь мужчиной, если начнешь побеждать.
Но сам путь, ведущий к подлинному овладению настоящей мужественностью — путь Сизифа, нескончаемый и бессмысленный. Ты прешь напролом, не заботясь о других и игнорируя собственные эмоции, пока однажды не умрешь.
Мой отец никогда не плакал при мне, и я мечтал увидеть, как он разрыдается. Ребенком я злился и недоумевал от того, что он не показывал мне других эмоций, кроме гнева и смутного раздражения. Я хотел увидеть в нем что-то подлинно человеческое, но с этим не складывалось. Даже когда умер его отец, и мы все (его самые близкие родственники: сестра, брат, моя мать, моя сестра и я сам) сидели в больничной палате. Я плакал громче и горше всех и испытывал от этого стыд, потому что слезы казались чем-то наигранным, женским. Но тогда — я знал — эта скорбь была естественной и безудержной. Горе не должно быть гендерно определено или иметь ценностную значимость — но для меня это было так. И это касалось всех аспектов моей жизни.
Сначала я хотел, чтобы мой отец заплакал, а в конце я стал запрещать плакать самому себе. «Прояви эмоции, и люди посчитают тебя женщиной», — считал я. «Не плакать — вот что есть мужественность», — считал я. Мне кажется, многие мальчишки так думают — разве что им невероятно повезло, но таких везучих очень мало. Большинству же с самого рождения предлагают сценарий, от которого запрещено отклоняться. Всегда сперва думай о себе, не обращай внимания на чувства других, побеждай, преуспевай, будь сильным, не плачь, борись, вреди, бери, бери, бери.

В то время, когда я впервые совершил камин-аут, я хотел всего: тестостерон, операцию по удалению груди, новое имя и другую отметку о гендере в водительском удостоверении. Мне и в голову не приходило, что транс*мужчиной можно быть как-то иначе. Я хотел наконец обрести могущество и заявить свое право на ту силу, которую дает подобное могущество — силу, позволяющую мужчинам творить что угодно без каких-либо последствий. Я хотел быть полноправным человеком. Я не хотел быть объектом.
На что Вселенная ответила мне: «Стань-ка ты в очередь».
Спустя пару лет после камин-аута я вернулся домой, чтобы сделать операцию, и решил, что уже можно начинать жить согласно заповедям мужественности — то есть, вести себя как настоящая неисправимая сволочь. Эта мысль меня одновременно взбудоражила и напугала.
«Я бы хотела с тобой сблизиться», — сказала моя мать, пока мы ехали в магазин. Я отходил от операции и все еще был слегка не в себе от обезболивающих.
Я промолчал. Она не понимала, что мужчинам не позволено с кем-либо сближаться.
Сегодня все иначе. Я не хочу существовать в рамках мужественности — я хочу ее понять. Сначала я отрицал, что я транс*человек, потом совершил камин-аут, а потом стал жить, как транс*человек, и в какой-то момент этого пути я осознал, что передо мной не стоит задача заслужить маскулинность — потому что та уже во мне.
Я больше не думаю, что быть женщиной значит не иметь власти и возможности выбора. Скорее, это значит меньше привилегий, — но это совсем не приговор, как мне когда-то казалось.
Я родился в царстве женственности, вырос в нем, погруженный в его обряды и ритуалы. По мере взросления я стал видеть истинную природу этих обрядов, включенных в глобальную систему гендера. Я стал видеть их нечестность, подлость и нелепость. Я хотел выйти из гендерной игры, и точка. Не хотел иметь с ней ничего общего.
Теперь же я часто ловлю себя на том, что в эту игру мне нужно вернуться, — но не потому, что мое мнение изменилось. Я по-прежнему считаю, что то, как мы в обществе обращаемся с девочками — как наша культура несправедливо отделяет их от мальчиков во всех сферах жизни, от образования и здравоохранения до личной безопасности, — отвратительно. Эта проблема занимает меня больше всех остальных, и ее решение я хочу увидеть больше других. Но простое отрицание гендера — с которым я рос, будто заложник — больше для меня не работает. Теперь я заинтересованное лицо. И коль скоро целый мир, кажется, сегодня тоже стал заинтересованным лицом, меня захлестывает целый вихрь эмоций: это и облегчение («Черт возьми, наконец-то!»), и ярость («Почему вы так долго тянули?»).
Хотелось бы сказать, что я в большей степени охвачен надеждой, но это не совсем правда. Я хочу, чтобы все вокруг смирились с человеческой многогранностью. Хочу, чтобы отказались от примитивного деления новорожденных на условные категории, которые позже трансформируются в роли «хищника» и «жертвы». Я хочу, чтобы все знали: у каждого из нас своя гендерная тюрьма. И, наконец, я хочу, чтобы мы воспитывали детей так, чтобы те могли вырваться из нее на свободу.