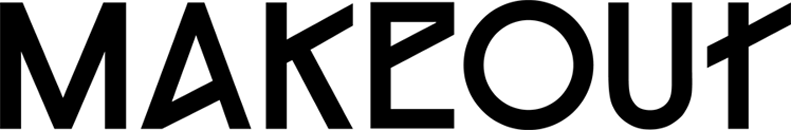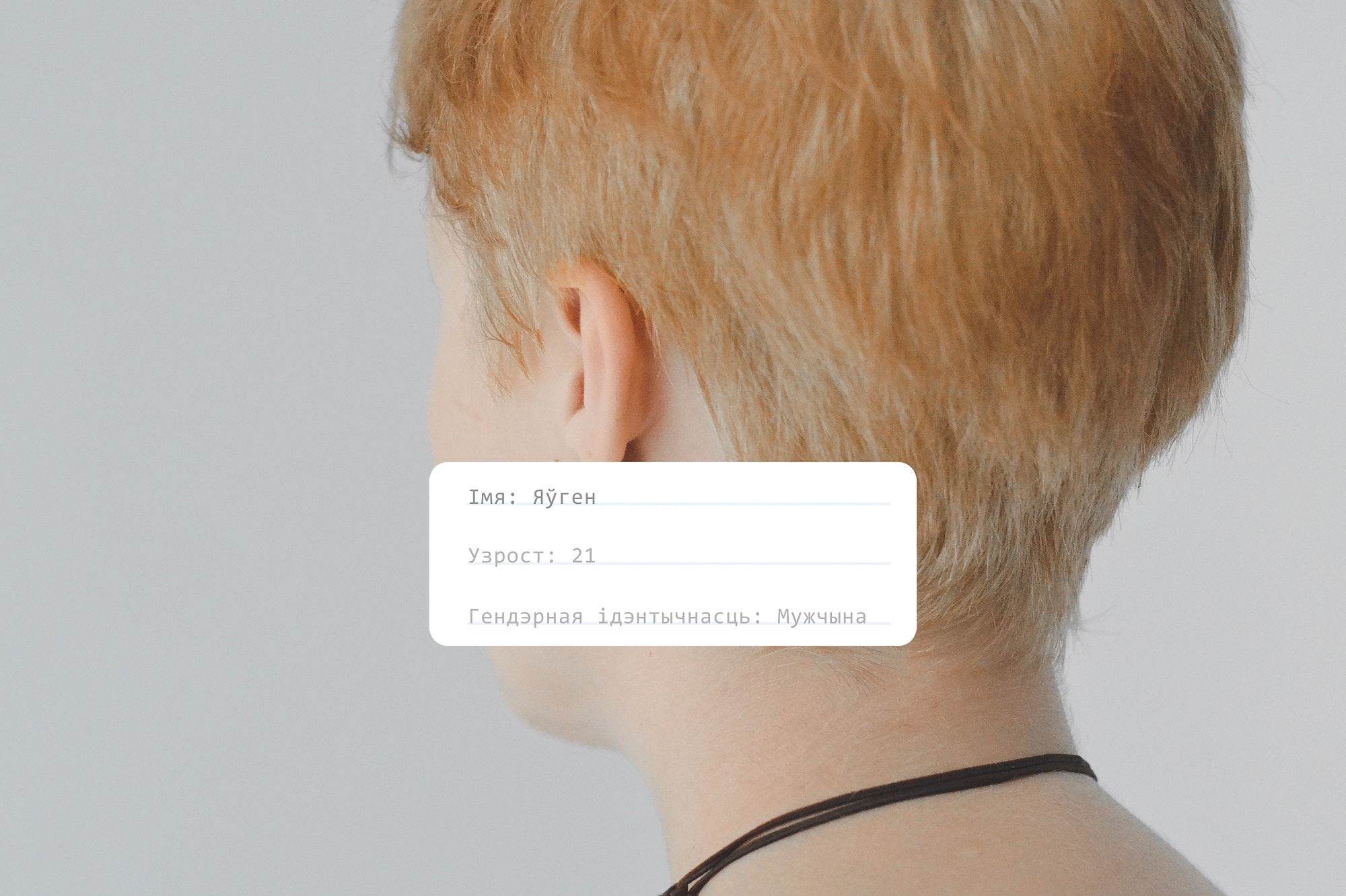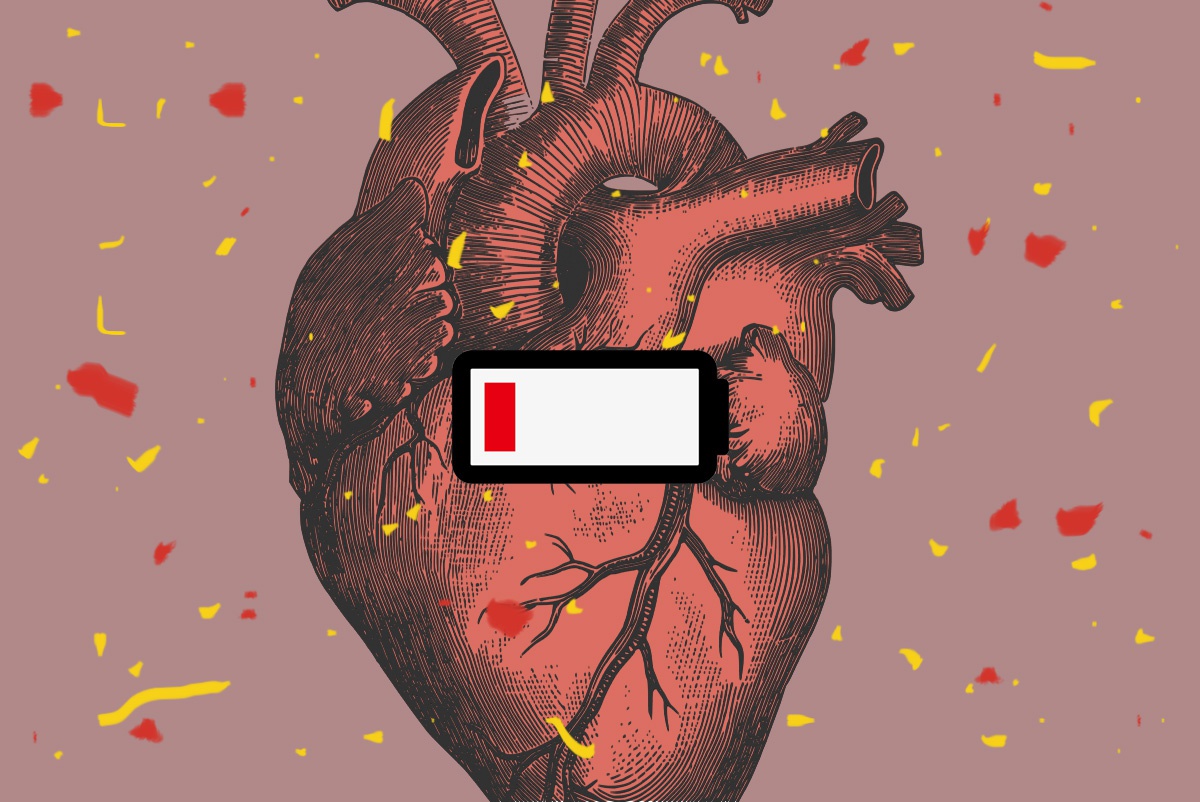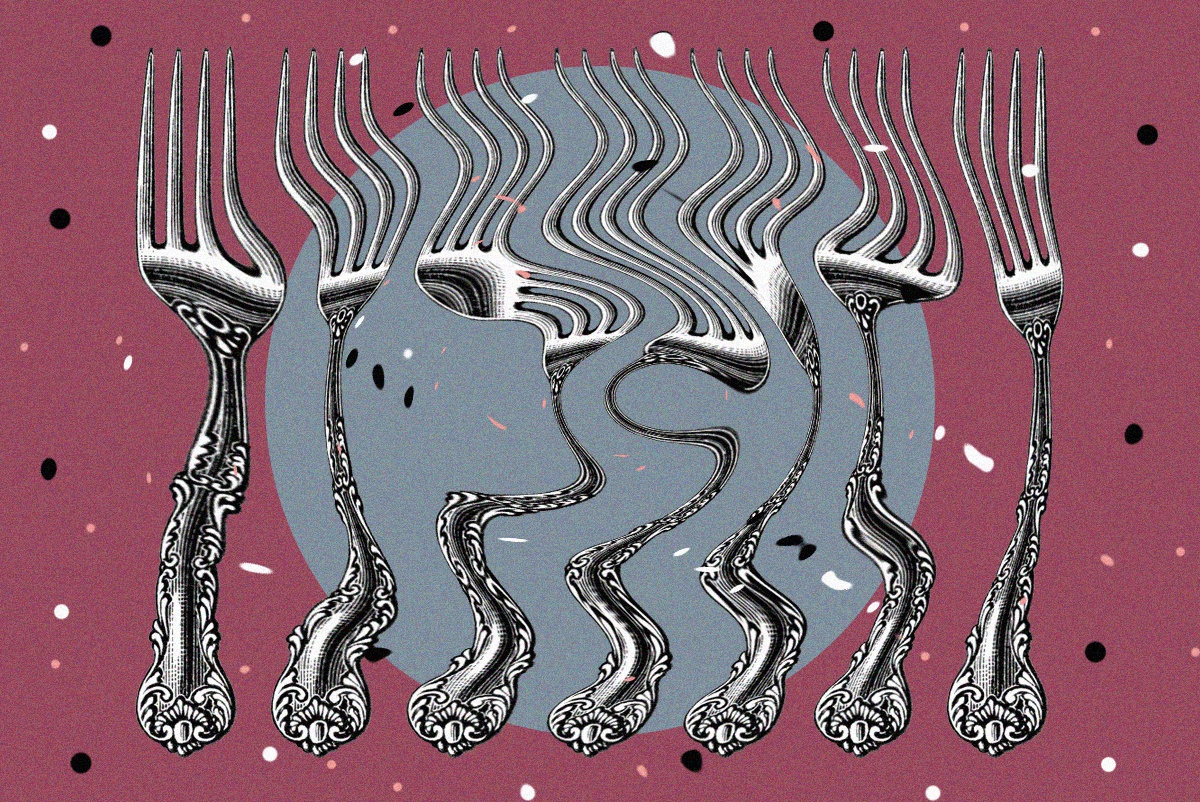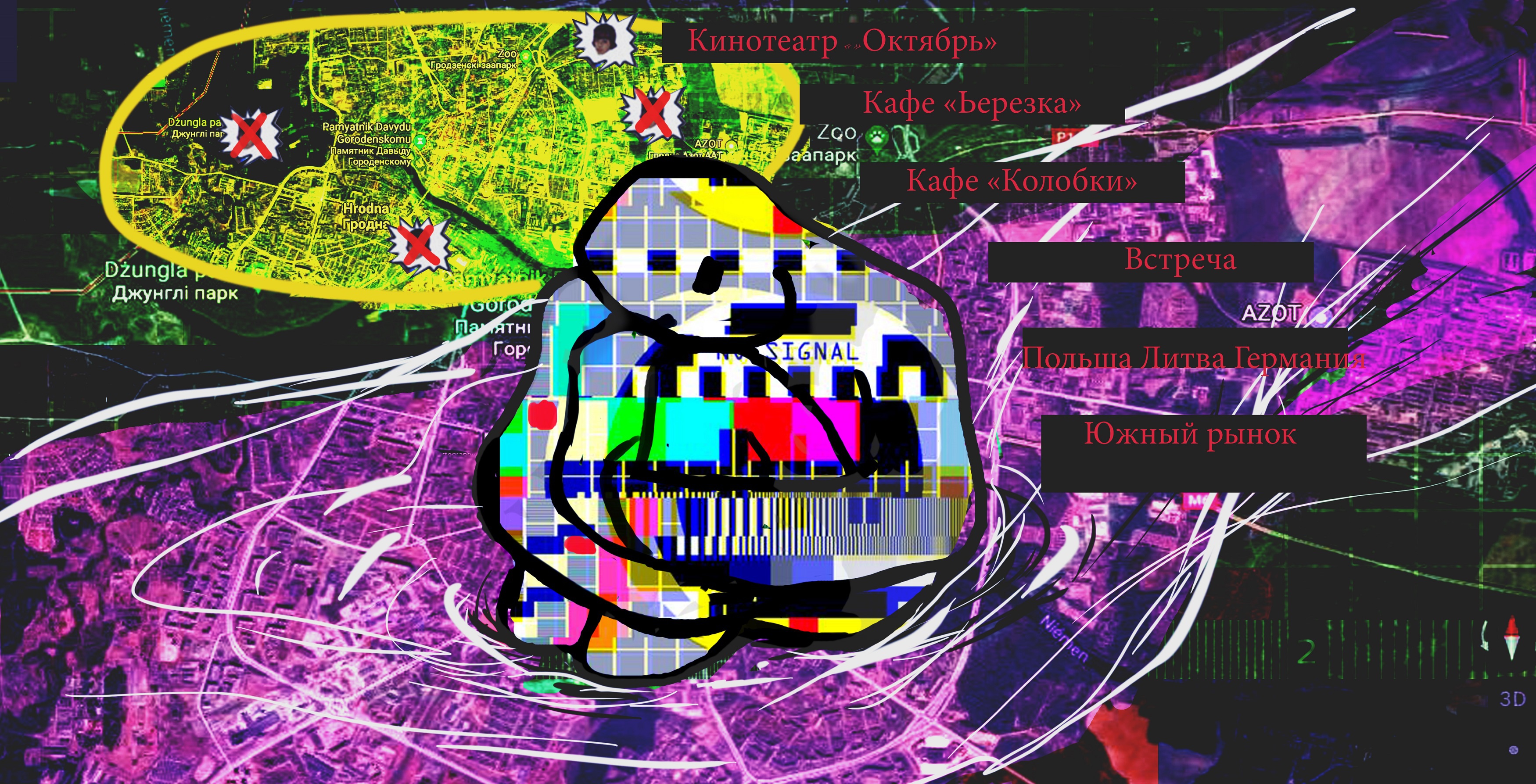На самом деле, Прайд-шествие – это очень утомительное и изматывающее действо. Участни_цам парада следует набраться терпения: в течение следующих пяти часов им предстоит аккумулировать и излучать счастье и радость, несмотря на дикую боль в ногах, усталость и голод.

Это правда стоит немалых усилий, а монотонность действий не внушает вдохновения: медленно двигаясь через весь город, танцевать, хлопать, махать руками и отвечать на приветствия и улыбки зрительниц и участни_ц Прайда. Тяжело не только тем, кто двигается в колоннах; зритель_ницы также совершают довольно монотонные действия.
Улыбка, свист, взмах рукой, аплодисменты: «Happy Pride!»
Улыбка, взмах рукой, аплодисменты, свист: «Happy Pride!»
Для меня как для жителя Восточной Европы это кажется странным и непривычным: для многих из нас такие массовые шествия ассоциируются либо с милитаризмом и «патриотизмом», либо с протестами и переворотами. А здесь вокруг только лозунги про солидарность, равенство и общие ценности. И всё это на фоне бесконечных улыбок, всеобщей радости и танцевальных битов, уверенно бьющих отовсюду.
Мне захотелось каким-то образом зафиксировать парад, передать атмосферу и настроение изнутри. Видеокамера на моём телефоне сделала это как смогла, но даже отвратительное качество записи не уменьшает её значения для меня. Этим видео я могу напомнить себе, что это действительно со мной случилось. Мне приятно поделиться этими воспоминаниями при помощи ютуб-репортажа. К моменту начала записи как раз прекратился сильнейший ливень, но дождь, как видно, не испортил настроение участни_цам.
Видео-репортаж Стокгольмского Прайд-парада 2016
 Фотография. Подготовка к Прайд-шествию в Стокгольме. На заднем фоне множество людей стоят посреди перекрытой для движения машин дороге в ожидании, повсюду висят шары и радужные флаги. На переднем плане две девушки позируют на камеру, застыв в непринуждённых и открытых позах. На их лицах широкие непосредственные улыбки. Девушка слева, широко раскрыв рот в момент радостной реплики, выбросила правую ногу в сторону, а руки – вверх, у неё белая кожа и розово-голубые длинные волосы, в её носу серьга-кольцо. Девушка справа слегка присела и вытянула руки вдоль туловища, её рот едва приоткрыт в улыбке; у неё смуглый цвет кожи и чёрные мелко-вьющиеся волосы, на брови нанесен серебристый глиттер, а между бровями укреплён красный блестящий камень. У них обеих на спине закреплены крылья с радужным оперением. © Фото Андрея Завалея
Фотография. Подготовка к Прайд-шествию в Стокгольме. На заднем фоне множество людей стоят посреди перекрытой для движения машин дороге в ожидании, повсюду висят шары и радужные флаги. На переднем плане две девушки позируют на камеру, застыв в непринуждённых и открытых позах. На их лицах широкие непосредственные улыбки. Девушка слева, широко раскрыв рот в момент радостной реплики, выбросила правую ногу в сторону, а руки – вверх, у неё белая кожа и розово-голубые длинные волосы, в её носу серьга-кольцо. Девушка справа слегка присела и вытянула руки вдоль туловища, её рот едва приоткрыт в улыбке; у неё смуглый цвет кожи и чёрные мелко-вьющиеся волосы, на брови нанесен серебристый глиттер, а между бровями укреплён красный блестящий камень. У них обеих на спине закреплены крылья с радужным оперением. © Фото Андрея ЗавалеяКонечно, кто-то кричит громче, кто-то улыбается шире, но почти наверняка среди 50 тысяч участни_ц нет тех, кто оказались в центре Прайд-шествия случайно – это самое масштабное и массовое мероприятие, событие года для Швеции. В отличие от многих других больших Прайдов по всему миру, стокгольмскую Прайд-неделю сложно упрекнуть в коммерциализации. Все средства, вырученные от продажи билетов, идут на аренду оборудования и помещений для мероприятий, во время Прайд-недели все сотрудни_цы работают на волонтёрских началах, а в штате самой организации – всего 3 человека. Конечно, на туризме зарабатывает весь город, и Прайд-неделя вносит значительный вклад в бюджет.
Стокгольм-Прайд имеет большое социальное значение для Швеции. Всю неделю в городе проходит много мероприятий, поднимающих актуальные для ЛГБТК*-сообщества вопросы. СМИ уделяют особое внимание ЛГБТК*-проблематике в Прайд-неделю: это возможность для ЛГБТК* как для социальной группы говорить и быть услышанными. В Прайд вовлечены почти все политические партии, государственные структуры, профсоюзы, службы и ассоциации. ЛГБТК*-люди заняты во всех сферах: своя колонна на Прайд-шествии есть и у пожарной службы, и у полиции, и у военных, и у спортивных ассоциаций.
Что же заставляет становиться частью Прайда? Мотивации могут показаться противоречивыми или неубедительными, особенно если не знать историю развития движения и не понимать контекст. Так или иначе, в основном их две – празднование уже достигнутых социальных изменений и манифестации с призывом к борьбе с дискриминацией и теми проблемами, которые всё ещё существуют.
Сам феномен Прайд-парада является протестным по своей сути. Хотя из памяти локальных западных сообществ и могут постепенно исчезать моменты из истории становления движения, когда каждый выход на улицы был сопряжён с опасностью быть избитыми или задержанными полицией, а также встретить на своём пути осуждение и ненависть.
«Сейчас, глядя на огромное Прайд-шествие в Стокгольме, полное радости и жизни, довольно сложно представить, какой тяжелый, и порой кровавый путь оно прошло»
Это в разной степени применимо практически для всех Прайдов по всему миру. И именно поэтому у сообщества нет права впадать в эйфорию: останавливать марш нельзя, как нельзя и изымать из его сущности его протестную составляющую. Равенство не достигнуто. В обществе всё ещё сильны предрассудки по отношению к трансгендерным людям, они до сих пор не имеют полноценной защиты от дискриминации: нападение на трансгендерн_ую человека не может быть рассмотрено как преступление на почве ненависти по шведскому законодательству. И хотя решение проблем транс-сообщества теперь имеет самый высокий приоритет для ЛГБТ-организаций в Швеции, всё равно можно испытать много боли и сожаления, ведь это происходит только сейчас, в 2016-м!

Фотография. Прайд-шествие, многочисленная на фоне ярко-голубого почти безоблачного неба и виднеющегося вдалеке белоснежного корабля движется многочисленная колонна с огромным транспарантом на главном плане с чёрной надписью на белом фоне – «Marching for those who can't» (Маршируем за тех, кто не может). У всех людей рты заклеены чёрным скотчем, они в белых майках с такими же надписями. В руках многих транспаранты с надписями на разных языках. В том числе, «Права ЛГБТ – это Права человека» по-английски. © Фото James O'Brien
Marching for those, who can't
Те, кто работает над развитием эмпатии и осведомлены о событиях и тенденциях, происходящих в мире, а также об их взаимосвязи, исторических и культурных контекстах дискриминаций, не могут не осознавать опасности, идущей от популистских расистких, сексистких, гомофобных или трансфобных лозунгов. Важно, чтобы об этом помнили активист_ки и НГО, в том числе и ЛГБТК*. Идея интерсекциональности для Швеции не нова, в том числе поэтому в составе шествия присутствует уже ставшая традиционной колонна «Маршируем за тех, кто не может». Осознание взаимосвязи и взаимозависимости всех культур мира толкает к солидарности, заставляет помнить о судьбах тех людей, чей голос не может быть услышан. Следом за практикой подобного «включения» встаёт вопрос для кажд_ой из нас: что мы можем сделать в отношении системной дискриминации хотя бы в странах-соседях, исходя из своих активистских, расовых, классовых и других привилегий? И главное, где в вопросах международного взаимодействия проходит граница между солидарностью и вмешательством, участием и колонизацией? Как понимаю это я здесь и сейчас, осмысляя свой сложный багаж постколониального опыта, оказавшись на западноевропейском Прайд-шествии?
В шествии маршируют также и квир-анархист_ки, которые в своих лозунгах, в частности, указывают на довольно очевидную причинно-следственную связь нынешнего миграционного кризиса ЕС и колониального прошлого Европы, а также критикуют противоречивую внешнюю и внутреннюю политику Европейского Союза. Современная критика прайдов – частный случай серьезного взгляда на «слабые места» европейской правозащитной риторики и политики. Политики, в которой поддержка НГО для женщин в кризисной ситуации и ЛГБТК*-людей может идти рука об руку с холодным капиталистическим взглядом на военные конфликты, разжиганием национальной розни, исламофобными выпадами государственных СМИ и политических деятель_ниц...
При всех идеализированных и утопических, как скептически можно было бы заметить, мультикультуралистических лозунгах («No borders! No nations! Stop deportations!» – «Нет – границам! Нет – нациям! Остановите депортации!»), колонна совсем не кажется маргинальной, инфантильной или чересчур максималистской. При всей видимой «недостижимости» анархистских идеалов, важно иметь возможность посмотреть на ситуацию с разных ракурсов.
 Фотография. Начало Прайд-шествия. Многочисленная колонна людей движется под флагом ЛГБТК*-движения с нанесенным на него логотипом «анархия» (чёрная буква «А», взятая в чёрную окружность). © Фото Андрея Завалея
Фотография. Начало Прайд-шествия. Многочисленная колонна людей движется под флагом ЛГБТК*-движения с нанесенным на него логотипом «анархия» (чёрная буква «А», взятая в чёрную окружность). © Фото Андрея Завалея Анимированное гиф-изображение. В ожидании начала Прайд-шествия люди в колонне ритмично двигаются на месте в такт музыке. В центре находится человек в костюме и гриме Пикачу (покемон жёлтого цвета с хвостом в виде молнии), неторопливо раскачивающ_аяся из стороны в сторону.
Часто можно услышать критику Европы за «излишнюю» фокусировку на ЛГБТК*-проблематике. Действительно, осознание и выполнение Прав человека как Прав ЛГБТК* стало «лакмусовой бумажккой», точкой невозврата. Дело в том, что это именно та ценность, которая не может быть достигнута без выполнения широкого списка иных важных достижений в области Прав человека. А они, в свою очередь, не могут быть реализованы без Прав ЛГБТК*. То есть идея о том, что нельзя ограничивать в правах людей, основываясь на их принадлежности к социальной группе, культуре, религии, языку, гендерной или сексуальной идентичности , достигла своего апогея, сделав очевидным тот факт, что концепция Прав человека не работает в выборочном порядке.
«Права человека – универсальный механизм, и должен применяться по отношению ко всем людям без исключения. Иначе, рано или поздно, всё опять может скатиться в геноцид и глобальные войны»
Натравливание общества на ЛГБТК* в национальных масштабах не может быть ничем иным, кроме как осознанным стимулированием неприязни и ненависти. Своего рода практикой, чтобы в нужный момент сманипулировать этой ненавистью в любом удобном направлении, ведь управлять ненавистью и страхом – довольно простая задача.
 Фотография. Стокгольмское Прайд-шествие 2016, двигается колонна Queer Geeks (Квир-фанаты), вид сзади. Люди одеты в костюмы различных геро_инь и персонаже_к из мультфильмов, видеоигр и кино. В центре фотографии расположен солдат-клон – вымышленный персонаж из вселенной «Звёздных войн», элитный солдат Галактической Республики. Е_ё броня и шлем розового цвета, а на плечи наброшен флаг ЛГБТК*-движения. © Фото Андрея Завалея
Фотография. Стокгольмское Прайд-шествие 2016, двигается колонна Queer Geeks (Квир-фанаты), вид сзади. Люди одеты в костюмы различных геро_инь и персонаже_к из мультфильмов, видеоигр и кино. В центре фотографии расположен солдат-клон – вымышленный персонаж из вселенной «Звёздных войн», элитный солдат Галактической Республики. Е_ё броня и шлем розового цвета, а на плечи наброшен флаг ЛГБТК*-движения. © Фото Андрея Завалея Фотография. В ожидании начала Прайд-шествия трое гендерно-небинарных людей: дв_е из них стоят спиной, на их спинах расположены крылышки фей светло-розовых и пурпурно-голубых тонах. На человеке слева одеты короткие светло-голубые шорты, е_ё спина, кисти и плечи покрыты татуировками а на голове – сине-розово-голубой длинный парик. У человека справа русые длинные волосы, на не_й одета бело-радужная полупрозрачная пышная короткая юбка. Между ними располагается человек в чёрном с напылениями серебристого платье в пол, маскарадной маске и конусе ведьмы. У них в руках волшебные палочки, на одной из которых закреплена плюшевая игрушка фиолетового единорога. © Фото Андрея Завалея
Фотография. В ожидании начала Прайд-шествия трое гендерно-небинарных людей: дв_е из них стоят спиной, на их спинах расположены крылышки фей светло-розовых и пурпурно-голубых тонах. На человеке слева одеты короткие светло-голубые шорты, е_ё спина, кисти и плечи покрыты татуировками а на голове – сине-розово-голубой длинный парик. У человека справа русые длинные волосы, на не_й одета бело-радужная полупрозрачная пышная короткая юбка. Между ними располагается человек в чёрном с напылениями серебристого платье в пол, маскарадной маске и конусе ведьмы. У них в руках волшебные палочки, на одной из которых закреплена плюшевая игрушка фиолетового единорога. © Фото Андрея ЗавалеяНесмотря на долгую историю становления концепции Прав человека, сегодня мы можем констатировать, что одной Декларацией невозможно гарантировать мир без страха и насилия. Мы не осознаем права на жизнь, на свободу совести, сексуальности и слова от рождения: это можно понять только изучая историю и опыт катаклизмов прошлого. Стабильность в регионе Западной Европы после Второй Мировой войны на фоне раздирающих планету локальных войн, конфликтов и противоречий оставляют все меньше гарантий на память мирового сообщества о цене достижений и уроков прошлого. Хочется надеяться, что именно понимание важности исторической памяти о борьбе за права и равенство заставило большинство людей прийти на Прайд.
Исторический опыт показывает, что самым эффективным рычагом воздействия на массы является дегуманизация конкретных социальных групп – через разжигание ненависти и поощрение предубеждений и неприязни. Идея Прав человека декларирует свободу и равенство людей в своём достоинстве и правах.
Это отнюдь не значит, что все люди одинаковые, «равные» по своим способностям и обязательствам. Это означает стремление к уважению наших особенностей и различий, отказ от насилия и дискриминации, эксплуатации на их основе.
Существует множество различных способов манифестаций и декларирования своих ценностей на разных уровнях, но своеобразным «маркером развития» и точкой отсчёта для Западного мира зачастую является Прайд. Постколониальный синдром, как и сама колониальная история Европы, в целом поддерживают стереотип о том, что существует единственно верный путь, которому нужно следовать, чтобы добиться цели. Это заставляет активисто_к по всему миру стремиться к Прайду и шествию даже в тех странах, в которых исторический и социальный контекст совершенно для таких событий (как и для других собраний и ассоциаций) не приспособлен в принципе к той форме, которая сложилась в Западной Европе. Например, об истории Прайда в современной Беларуси можно прочитать в материале Насты Манцевич «В поиске места: ретроспектива гей-прайда в Минске».
Конечно, есть много общего во внешних признаках свободного общества в разных странах, но пути их достижения в большинстве случаев внушительно разнятся. Наличие или отсутствие Прайда является одним из индикатором свободного общества, с этим можно согласиться. Но является ли он универсальным средством достижения равенства?
Анимированное гиф-изображение на основе фотографии. Начало движения прайда. На переднем плане – колонна Беларуси. Впереди движутся две драг-королевы: на девушке слева с длинными тёмно-русыми волосами красное платье в пол, девушка справа – в белоснежном платье, у неё светло-русые волосы. За ними движутся люди с бело-красно-белыми и радужными флагами, держащие транспарант с надписями «Лучше быть геем, чем диктатором» по-английски, «Беларусы Швецыі» по-беларуски и по-шведски и изображением красного силуэта взлетающего ввысь аиста на белом фоне. Сразу за беларуской колонной движется украинская, национальная атрибутика – желто-синий венок, желто-синий флаг – соседствует с транспарантом, изображающим два типизованных силуэта казаков с длинными чубами, целующимися на фоне шестицветной радуги.
«Любовь между двумя людьми не может быть болезнью»
Мне удалось побеседовать с Барбро Вестерхольм (Barbro Westerholm), которая была главой шведского национального совета охраны здоровья и социального обеспечения в 1979 году, когда гомосексуальность была исключена из списка заболеваний. Активист_ки RFSL, одной из самых старых ЛГБТ-организаций в мире (созданной в 1950 году) тогда парализовали работу министерства, заблокировав главную лестницу. Протест вошёл в историю как «неделя освобождения» – люди отказывались выходить на работу по причине «болезни», ссылаясь на национальное законодательство в области здравоохранения.
Разговор с Барбро позволил мне глубже окунуться в шведский контекст. В Швеции гомосексуальность попала в список заболеваний в 1944 году, перекочевав из уголовного кодекса. В то время нельзя было просто избавиться от стигматизации гомосексуальности по политическим причинам. Назвав гомосексуальность болезнью вместо преступления, шведское правительство пыталось смягчить социальное недовольство. Этот «промежуточный этап» затянулся на 35 лет.

Следующим шагом стала легализация партнёрств в 1995 году (без права на усыновление), а в 2009 было юридически оформлено брачное равноправие. И снова: если бы усыновление было включено в законопроект 1995 года, партнёрства не были бы одобрены парламентом.. На это, соответственно, потребовалось ещё 14 лет, за которые было принято также и антидискриминационное законодательство. Важно понимать: причина, потребовавшая так много времени для трансформации, не является медицинской или научной, она является социально-правовой и нормативно-этической: что мы понимаем под «естественным» и «правильным»; что приемлемо, а что порицаемо.
Самым главным сдерживающим фактором прогресса стала эпидемия ВИЧ, пришедшая в Швецию в 1982 году. Многие люди тогда восклицали: «это наказание Господа!», звучали призывы изолировать геев на нескольких островах в Балтийском море, и т.д.. Это были тяжелые годы для ЛГБТК*-сообществ по всему миру.
 Фотография. Информационная стойка офиса Прайд-недели в Стокгольме, на которой можно приобрести литературу и информационные брошюры. Сбоку расположен широкий радужный флаг от пола до пололка. По просторному холлу свободно передвигаются люди, а у стойки человек с оранжевым рюкзаком читает книгу, стоя в кадре спиной. © Фото Андрея Завалея
Фотография. Информационная стойка офиса Прайд-недели в Стокгольме, на которой можно приобрести литературу и информационные брошюры. Сбоку расположен широкий радужный флаг от пола до пололка. По просторному холлу свободно передвигаются люди, а у стойки человек с оранжевым рюкзаком читает книгу, стоя в кадре спиной. © Фото Андрея ЗавалеяНо даже в нынешней ситуации брачного равноправия для однополых пар сохраняется множество преград.
Гомосексуальным женщинам завести детей проще, но даже здесь есть «подводные камни» – только одна женщина по шведским законам может считаться «биологической матерью», поэтому гомосексуальным женским парам приходится ездить, например, в Данию, чтобы иметь возможность родить каждой. Интересный факт: до 1970 года незамужняя женщина в Швеции не могла усыновить ребёнка, а воспользоваться искусственным оплодотворением мать-одиночка может лишь с 1 апреля 2016 года.
Для шведских гомосексуальных мужчин суррогатное материнство остаётся единственным выходом, так как за рубежом однополым семьям зачастую отказывают в усыновлении, а в Швеции практически нет детей, которых можно было бы усыновить. Это значит, что все роды являются запланированными, а все дети – желанными. При этом важно отметить, что существует острая необходимость в работе над предотвращением нежелательных беременностей – ежегодно проводится около 34.000 абортов, что для страны с 10-миллионным населением является действительно внушительной цифрой.
В самой Швеции суррогатное материнство запрещено: может ли в принципе решение стать суррогатной матерью являться свободным выбором женщины? Есть люди, которые считают, что женщина в состоянии сделать такой осознанный выбор и говорят «да» альтруистическому суррогатному материнству, которое работает, например, в Нидерландах. Но правительство пока не готово пойти на такой шаг. В Швеции не стоит вопрос о том, является ли, например, донорство органов свободным выбором, но насчёт суррогатного материнства у женского лобби твёрдая позиция – насколько бы женщина ни была хорошо осведомлена, суррогатное материнство может являться лишь только эксплуатацией.

«Суррогатное материнство существовало со времён Авраама, во всех сословиях вплоть до королевских семей, но до сих пор является одним из самых табуированных вопросов в обществе. Люди никогда не говорили об этом, не существует статистики или хотя бы приблизительно целостной картины.
В девяностых я встречала женщин, которые помогли другим завести ребёнка, но они боялись говорить об этом открыто из страха, что власти могут отобрать ребёнка – в то время это совсем не принималось. Но если что-то находится вне системы – люди могут попадать в очень проблематичные ситуации. Нет способа доказать наличие или отсутствие свободы выбора на 100%. Но соблюсти баланс – возможно. Для этого должен проводиться широкий ряд исследований: доктор_ками, специалист_ками, психолог_инями.. Стоит отметить, что во Всеобщей декларации Прав человека отцовство и материнство сами по себе отсутствуют как права. Но нам известно о вреде здоровью в случае неудач при попытках завести детей во время использования вспомогательных репродуктивных технологий. Отказ в праве быть родитель_ницей очень сильно влияет на психологическое здоровье».
Анимированное гиф-изображение на основе фотографии. Набережная и пирс в центре Стокгольма с пришвартованной к нему туристической лодкой. Многочисленные флагштоки на набережной удерживают развивающиеся на ветру радужные флаги. На заднем фоне расположена гостиница «Grand Hotel» с развивающимися на крыше флагами Норвегии, Великобритании, Германии, Финляндии и других. По набережной прогуливаются и отдыхают на скамейках люди.

Как бы то ни было, улетая из Стокгольма, я с трудом сдерживал слёзы. Флаги, развивающиеся в аэропорту, как будто говорят мне: «ты – под защитой, тебе здесь нечего бояться. Мы любим тебя. Ты – замечательный». И перед глазами в эту секунду пролетают кадры из моей жизни: гомофобные окрики издалека в школе, косые взгляды на улице, оскорбления в кафе, чувство стыда перед родителями и друзьями, отвращение к самому себе, злость на судьбу за моё «проклятие», паника быть раскрытым, страх быть униженным. И это перманентное чувство полной незащищённости, которое я ощущаю и по сей день, идя по нецентральной улице Минска. Как я могу защитить себя, своих друзей и близких? Как бы иначе развивалась моя жизнь, если бы мне не приходилось когда-то злиться и ненавидеть себя, прятаться и врать, убегать и скрываться? Сколько моментов счастья я упустил, боясь обнять любимого человека идя по улице, не имея возможности взять его за руку? Сколько сил, энергии и внутренних ресурсов я растратил, пытаясь принять, любить и уважать себя несмотря на весь поток ненависти, встречающийся мне на пути, и куда бы я смог эти силы направить, если бы мне не пришлось сражаться с этими проблемами? Каким профессионалом я мог бы стать, какой вклад мог бы внести в развитие искусства, науки, промышленности, сельского хозяйства, медицины (чем бы я ни занимался), если бы меня ценили, если бы меня уважали и принимали меня за равного? Этого в моём случае уже не узнать – но мы можем увидеть это на примере будущих поколений... Так или иначе, инклюзивность и принятие – это и есть главные механизмы развития человеческого потенциала.