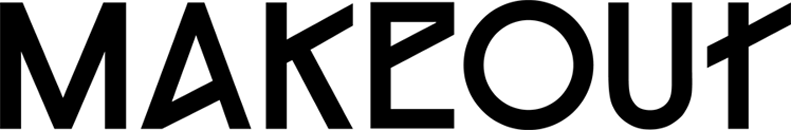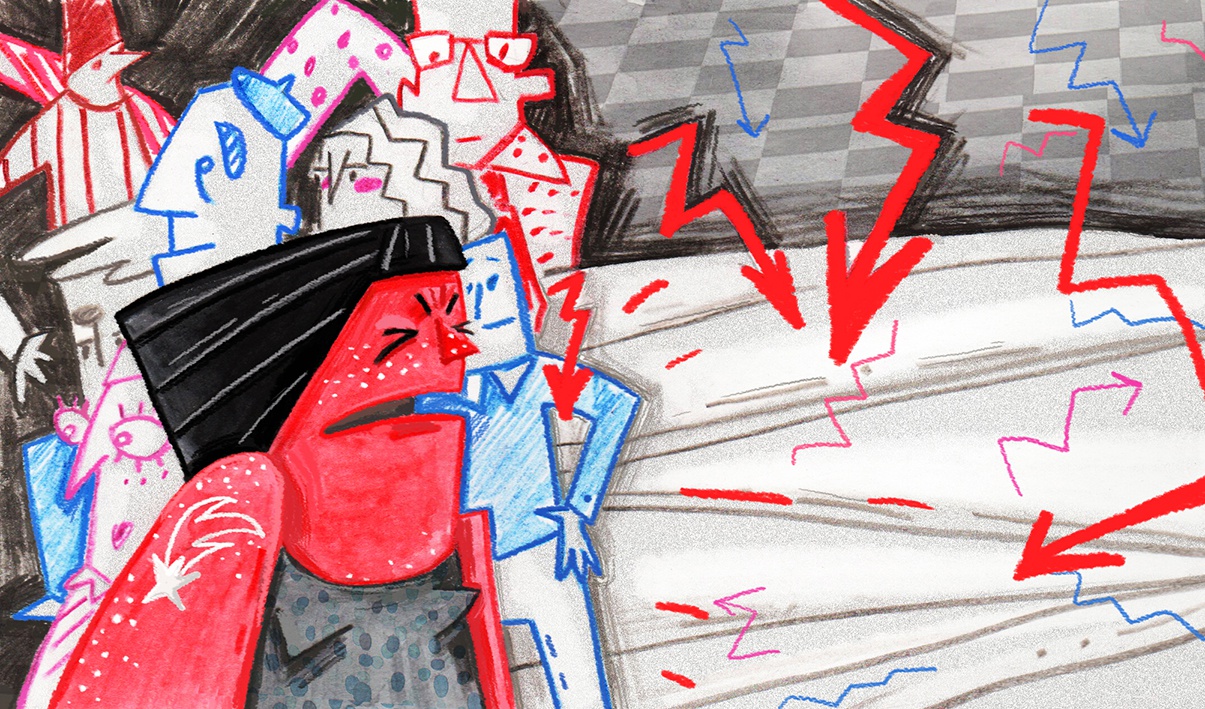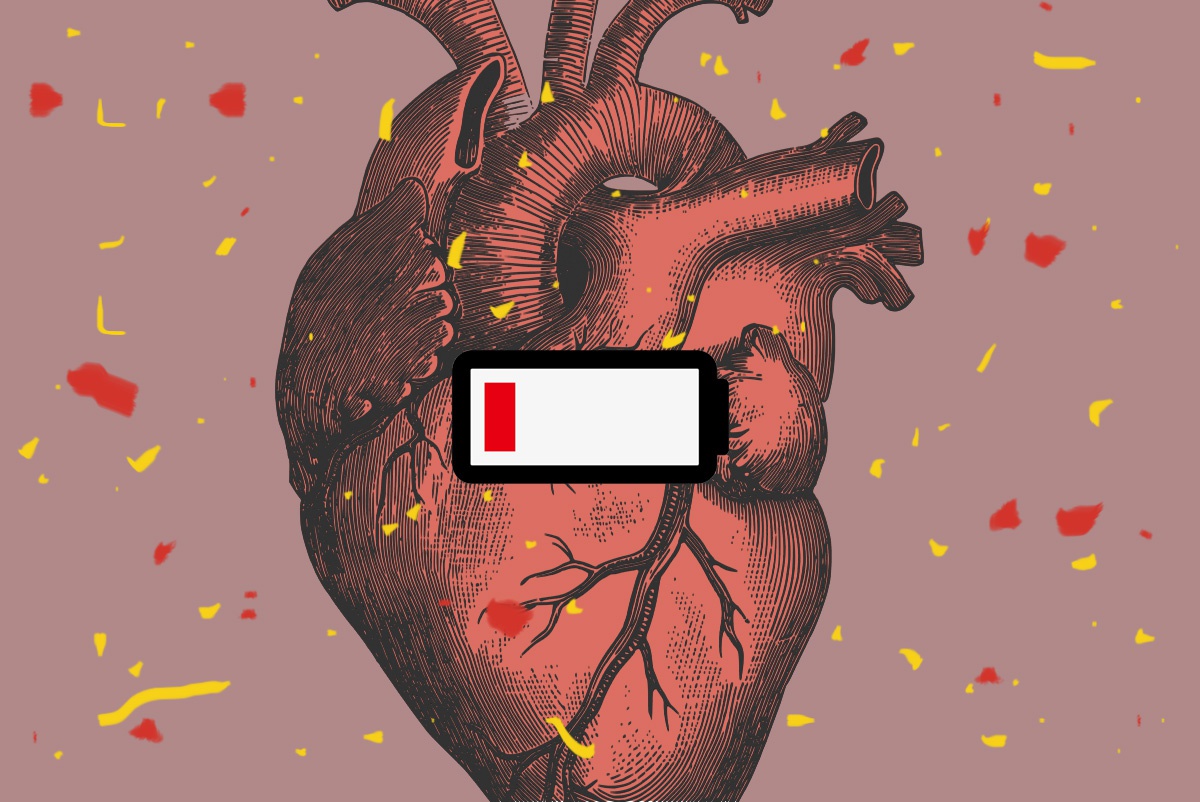В гомофобном обществе семья вносит свой вклад в поддержание гендерных стереотипов. Порой родители, стоя на страже гетеронормативности, пытаются влиять на жизненный выбор своих детей: «вахта» гендерных ролей должна передаваться из поколения в поколение. Но в мире звучит музыка о любви против всех правил. И дети (которые на самом деле уже не дети) перестают чувствовать одиночество.
Для поколения 90-х подростковая растерянность пришлась на годы, когда «умные» книги и медиа были вне досягаемости или не существовали вовсе.
Но Земфира и Арбенина пели из всего, что могло принимать радиочастоты и крутить кассеты. И пели они о знакомом и понятном. Между строк ― тайный код «для своих», знакомый по личным историям опыт, которым не делились с другими. Часто этого узнавания хватало, чтобы отчаяние и одиночество перестали ощущаться так остро. Герои и героини этого текста вспоминают, как музыка помогла им осознать себя и стала тем необходимым прибежищем, где успокаивалось горячее пубертатное сердце.
Саша

С гомофобией у моей матери «умеренно-никак», а вот с гендерным консерватизмом ― беда. Когда я еще не была «в теме» про Земфиру, но уже знала все о «Ночных снайперах», она ко мне зашла в комнату. Я слушала «Прогулку», как сейчас помню. Маман прокомментировала голос Земфиры: «Пацанско-пидорский, совсем гейский ― не то, что у Арбениной. Я ее так люблю ― истинная женщина». И я говорю: «Мама, ты не поверишь…».
Леннон
Я с детства немножко не врубался, почему я девочка, смотрел в зеркало: «Кто это?». Мама с бабушками тоже в разной степени недоумевали: «Что за пацанка?». Я не считаю себя парнем. Но и девушкой тоже себя не считаю.
Осенью 2014 меня «пробило» на Земфиру и «Ночных Снайперов». Сразу несколько новых знакомых слушали, я и подсел сильно. Тогда еще ни о чем не думал, просто. Мама узнала об этом, и бабушка тоже.
Мама спросила, зачем я слушаю эти «мужиковатые» группы, сказала, что бабушка боится, что я «буду любить девочек» из-за того, что выгляжу и веду себя как парень. Как многие сегодня, мама и бабушка имеют весьма стереотипное представление о «типичной лесбиянке»: очки, короткие волосы, преславутая «мужиковатость». Мама сказала мне тогда, что они с самого моего детства боялись, что я «стану лесбухой».
Мы все просто поржали, я тогда вообще не задумался. Я в принципе не думал о своей ориентации. А через месяц осознал, что жить не могу без человека, биологически девушки, внутренне ― тоже неизвестно.
И вот тогда я стал жестко бояться, все мои вкусы стали казаться мне очень «говорящими»: Земфира, «Ночные Снайперы» ― я стал машинально это скрывать, как будто это что-то значило. Оно, и правда, значило: я под «Ромашки» к человеку в метро бежал, задыхаясь.
Я только в 16 лет слово «гендер» услышал. Про то, кого любить, вообще не думал. Ну, пару раз казалось, что мне нравится мальчик, старшеклассник.
Он классно выглядел. Потом я осознал, что я сам хотел бы выглядеть так же. Я торчал по актерам, и люди думали, что я хочу их, как всякая девочка. А я хотел быть как они. Потом я начал коротко стричься, и мне это очень нравилось. Сейчас я себя устраиваю. Ну, почти.
Сижу вот, такой эталонный лесбийский чувак: футболка, волосы короткие, очки, Земфира в плеере. Просто канон, блин. Но меня раздражает, когда меня называют или считают лесбиянкой. Чтобы говорить об ориентации, нужна какая-то референтная выборка, а мне только 18, я влюблялся один раз в жизни, в одного человека. Моего человека. Так что когда по моей внешности или вкусам начинают делать выводы ― это дико бесит. В этом плане меня раздражает российская лесби-культура. Там часто делают какой-то вывод и еще и настаивают на нем. Типа, «я-то знаю, не отпирайся, да и потом, ты ж, правда, девушку любишь».
Меня бесит стереотипный образ лесбиянки, потому что формально я в него попадаю по всем гребаным признакам. Мой гнев ― это реакция на внешнее воздействие. Если по моей внешности люди делают вывод, что я просто принадлежу к ЛГБТКИАП, то это гуд. Но если меня насильно приписывают к лесбиянкам, когда я себя таковой не считаю, ― прямо трясет. То есть, я чудесно отношусь к таким людям, но меня бесит включение в группу без моего желания.
 © Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных бирюзовых, фиолетовых, черных и желтых мазков, наложена черно-белая фотография человека с гитарой. Это Диана Арбенина. У музыкантки светлые короткие волосы, на ней черная кофта и металлический медальон. Ее рот приоткрыт, лицо серьезно. На губах нарисована бирюзовая помада.
© Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных бирюзовых, фиолетовых, черных и желтых мазков, наложена черно-белая фотография человека с гитарой. Это Диана Арбенина. У музыкантки светлые короткие волосы, на ней черная кофта и металлический медальон. Ее рот приоткрыт, лицо серьезно. На губах нарисована бирюзовая помада.Даная
Мать была взволнована тем, что в моем плейлисте фигурировала Арбенина, хотя сама меня заразила «драными джинсами и монгольскими скулами».
Русский рок не особо привлекал меня как жанр, но мама часто слушала и напевала ту самую, «про розы», песню Снайперов, а я просто повторяла за ней, не особо понимая, что к чему. Мама понимала, но не воспринимала всерьез их творчество. В реальности она жестко осуждает гомосексуальность.
В детстве я не осознавала связи Арбениной с ЛГБТ, даже в момент понимания: «ой, мне нравятся девушки». Осознала позже, когда пришла серьезная влюбленность. Конечно, я и раньше понимала, что поет она о женщине, но для меня это просто не было чем-то «из ряда вон». Еще я, как и мама, любила Земфиру, а отец брезгливо говорил: «она, похоже, нетрадиционная».
Частенько у мамы были высказывания «таких перестрелять надо, я бы лично этим занялась», «сжечь всех педерастов» и тому подобное. Когда я «вышла из шкафа» перед двоюродной сестрой, она была обеспокоена тем, что моя мать постоянно говорит такие вещи.
Мама слишком рано для меня узнала о моей ориентации. Это просто уничтожило наши и без того сложные взаимоотношения, поэтому я уже не реагировала на ее слова. Она очень религиозная, поэтому считает, что в моей ориентации «виноваты бесы».
Анурита

Когда мне было года два, я лежала в кроватке и смотрела на Майкла Джексона образца 80-х. Тогда у него была более темная кожа и широкий нос, и, глядя на этот плакат, я думала, что вижу самую красивую женщину на свете (после моей мамы, конечно). Примерно до 2007 я думала, что это женщина.
Меня не удивляло, что женщину зовут Майкл ― для мира, где правят мужчины, было бы естественно взять мужской псевдоним. В детстве я тоже старалась перенимать маскулинную модель поведения, потому что понимала: если я хочу какую-то хорошую жизнь, я должна быть не в платье, а в костюме-двойке. В хорошую жизнь входят только так. Родителей это не удивляло. Я хотела костюм-двойку? Мне покупали костюм-двойку.
Мои представления о женской красоте формировались по мужчинам. Японские исполнители, например, часто имеют феминный или андрогинный образ, пользуются макияжем. И мне нравился один такой певец ― алые губы на бледном лице, большие глаза. Он всегда был в наглухо застегнутой одежде. Девочки в фандоме кричали: «Когда же ты разденешься?». А я думала: «Спасибо, что ты одет». Меня пугала мысль, что под феминной оболочкой будет мужское тело.
В мужчинах мне всегда нравилась феминная составляющая, но из-за воспитания возникала дилемма: я чувствовала, что женщина ― это не ок, это второй сорт, я отрицала и не любила женщину в себе. Это длилось лет до восемнадцати, пока я не начала вступать в отношения с женщинами и не поняла, что женщины ― это очень круто.
Я заметила, что для многих девушек, моих подруг, осознание себя как лесбиянки проходило через стадию фетишизации феминных японских певцов. Мне кажется, что это объясняется мизогинией нашего общества.
Мир квира и феминизма очень помог мне осознать, что быть женщиной ― это совсем не то, что диктуют патриархатные рамки. В детстве же выбор стоял очень жестко: ты либо Зорро, либо его безымянная подружка. Конечно, я выбирала быть в черной рубашке и со шпагой.
Вообще, в детстве я думала, что вырасту не девушкой, а Антонио Бандерасом. В период пубертата с удивлением обнаружила, что происходит совсем другая трансформация. Щетина появилась не на лице, а совсем в других местах.
Сейчас мне все еще нравится Антонио Бандерас (я даже начала учить испанский из-за него). Но теперь я понимаю, что мое желание быть им вызывалось незнанием про альтернативные модели поведения для женщины.
 © Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных синих, черных и красных мазков, наложена черно-белая фотография человека с микрофоном у лица. Это Майкл Джексон. Темные вьющиеся волосы музыканта падают на лицо, одной рукой он держится за отворот светлой куртки. Его глаза закрыты, рот широко открыт. На веках и губах нарисованы фиолетовые тени и помада.
© Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных синих, черных и красных мазков, наложена черно-белая фотография человека с микрофоном у лица. Это Майкл Джексон. Темные вьющиеся волосы музыканта падают на лицо, одной рукой он держится за отворот светлой куртки. Его глаза закрыты, рот широко открыт. На веках и губах нарисованы фиолетовые тени и помада.Соня

Однажды папа принес домой диски Арбениной и сказал мне: «Вот, послушай, такая женщина, такие песни у нее классные!» А мама тогда сказала: «Ой, она выглядит как-то, как лесбиянка». Мне стало интересно. Заинтересовала сама музыка, захотелось узнать, о чем она поет. На то, что она там «лесбиянка-нелесбиянка», я никак не отреагировала.
Когда я включила песню «Ты дарила мне розы», я почему-то почувствовала смущение. Мне было лет 14-15. Тогда я еще не считала, что я лесбиянка, но какое-то смутное ощущение было.
Я слушаю много музыки, это для меня очень важно. Я сразу отметила необычный стиль Арбениной. В ней чувствовалась сила. И это очень привлекало. Я всегда хотела быть сильной, и Арбенина была тем идеалом, с которым можно себя ассоциировать.
Когда ты слушаешь песни, то, естественно, ставишь себя на место исполнителя. И я в какой-то степени начала чувствовать то, что чувствует она. Тогда как раз выходили те альбомы, где очень много песен адресовано женщинам: «Кошка», «Цунами», «Черное солнце», адресованное питерским лесбиянкам. Когда она пела о мужчинах, в это не очень верилось. Примерно так я поняла, что мне тоже нравятся девушки. Начала замечать за собой какие-то вещи, вспоминать моменты из прошлого. Заметила, что меня всегда тянуло к девушкам. Потом я стала копаться в ее более позднем творчестве, и там был этот так называемый негласный гимн всех лесбиянок ― «Про Тома Йорка». Она открыла мне глаза на меня саму и показала, что я не одна такая.
Я была суперфанаткой, плакала из-за того, что не попала на концерт. Ее музыка меня завораживала. Я видела в ней бойца, который будет идти сквозь боль, сквозь слезы, будет добиваться своего, рвать зубами ― и все это ради любви. Любви к девушке, к женщине. Мне всегда хотелось быть солдатиком. Да и сейчас, наверное…Снайпер, «Ночные снайперы»…
Потом, когда я уже начала в интернете копаться, идеальный образ стал рушиться. Но тогда у меня была музыка и мое представление о ней. Арбенина была примером стойкости. Возможно, это очень разнится с тем, какой она на самом деле человек.
Когда я сдавала историю Беларуси, то на книге с билетами написала даже: «Арбенина смогла ― и ты сможешь» (я знала, что у нее есть высшее образование). И меня это действительно как-то двигало.
Через ее песни я поняла, что мне нравятся девушки, что я лесбиянка. И я подумала, что должна выглядеть так же, как Арбенина, потому что она тоже лесбиянка. Особого доступа к интернету и хорошим СМИ тогда не было, и я думала, что все лесбиянки выглядят, в точности как Арбенина, и ведут себя так же, без вариантов.
Я начала носить одежду брата, хотела отрезать волосы (у меня были до пояса) ― и действительно постриглась очень коротко. Черные вещи в жару, в +30°, кроссовки на три размера больше… Кольца на большой палец не было, поэтому я просто чем-нибудь его обматывала. Всё это было супер-нелепо, но брутально.
Мне нужно было найти себе девушку, и вот я надевала этот камуфляж (я была уверена, что если буду выглядеть как Арбенина, то девушка сразу найдется), включала Арбенину и просто бессмысленно ездила в троллейбусах, выискивая кого-то похожего на нее (потому что думала, что только так выглядят лесбиянки). Естественно, таких попадалось мало, а я еще достаточно стеснительная, не могла подойти. Просто видела их ― и мне становилось как-то легче. Не знаю, чем я тогда руководствовалась. Песни были про страдания и любовь ― вот я и искала страдания и любовь в гродненских троллейбусах.
Еще писала на Советской, на этой плиточке: «Кто слушает «Ночных Снайперов» и Земфиру ― звоните (и мой номер)». Сейчас это уже все стерлось, конечно.
До Арбениной я слушала группу «БиС» и была такой женственной-женственной принцессой. Когда я увлеклась Арбениной и стала меняться, родители отреагировали очень остро. Что касается школы, то там я всегда держалась в одиночку, поэтому никто особо не удивлялся тому, как я прихожу. Но родителям очень не нравилось, как я выгляжу. Мама ласково называла меня «то ли девочка, то ли видение»: намекала, что девочке некрасиво так ходить, что я выгляжу «как гопник какой-то», что на меня никто не посмотрит. Но, в принципе, мама ничего не делала по этому поводу. Если мне что-то нравится, то пускай нравится ― такое мнение у нее до сих пор. А папа ― достаточно импульсивный человек. И он мужчина, то есть, если его что-то не устраивает, то все должно стать так, как он сказал. Когда он видел меня в рубашках брата, то сначала говорил: «переоденься», потом: «ты выглядишь как уродина», «я на тебя смотреть не могу» и так далее.
В общем, он так со мной боролся. Когда мы собрались на рынок (я уже придумала, что хочу себе все эти рубашки, джинсы, кеды), папа сказал, чтобы мне купили какое-нибудь платье, юбку, блузку красивую. И поехал с нами. Я, конечно, сопротивлялась всеми силами. Я не хотела, мне не нравилось, а то, что я хотела померить, родители запрещали. В итоге, мы немного поругались по этому поводу, мне ничего не купили. Все были злые ужасно. Но приехали домой ― и все вроде бы утихло как-то.
На время это забылось, но однажды на папу вновь что-то нашло. Я сидела у себя в комнате, слушала Арбенину. Он открыл дверь, начал говорить: «посмотри на себя, как ты одеваешься, как ты выглядишь? То ли девочка, то ли парень». Он силой выставил меня из комнаты в коридор, бросил на пол. Уже был вечер. Он сказал, что я буду спать в коридоре, пока не извинюсь перед всеми, не стану нормально выглядеть и не выброшу эту Арбенину. Мама ничего не смогла сделать ― в нашей семье очень уважают отца. Она только принесла мне матрас.
Я не извинялась, потому что я же ― боец. Я думала: вот Арбенина же вытерпела, она такая сильная, значит, и я смогу. Я буду нести эту непосильную, тяжелую ношу лесбиянки. Отец не говорил мне «будешь слушать Арбенину ― станешь лесбиянкой», но он на это всячески намекал: «Она же ненормальная. Ты же слышишь, о чем она поет». То, что он сам принес эти диски, как-то не вспоминалось. Он принес их, какое-то время мы слушали Арбенину вместе, а потом, когда он начал видеть, что со мной происходит, он просто отрекся.
Ну, поспала я две ночи в коридоре. Потом мама подошла ко мне и сказала: «Все равно ты никак его не переубедишь. Лучше сделать так, как говорит папа, и приносить себе меньше страданий». И я пошла по такому пути: когда была дома, с родственниками, то выглядела более-менее женственно, а когда была вдали от них, то одевалась как хотела. В школе нам разрешали одеваться почти как угодно, и когда я возвращалась домой, то быстро бежала в комнату, чтобы переодеться, пока папа меня не увидел.
Конфликтные ситуации до сих пор есть. Хотя я выгляжу совсем не так «ужасно», как в шестнадцать, родители продолжают говорить мне, что я не слежу за собой, что я плохо выгляжу, что я некрасивая. Когда я надеваю платье или юбку, они меня поощряют: «Вот, можешь же, когда хочешь. Если ты оденешься хорошо, то и выглядишь хорошо». В том образе, который мне нравится, они меня никогда не хвалят.
А что касается Арбениной сегодня… «Эти длинные ресницы и черные глаза красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан? Прокачу на Ладе Седан». Эту песню поет Тимати. Называется «Лада Седан». Диана Арбенина перепела ее на кремлёвской сцене. Белая папаха, спортивный костюм и «Лада Седан». В тот же день я отписалась от всех ее аккаунтов и пабликов. Мне стало так противно. Она была для меня поэтом, музыкантом, богом, примером, на который равняешься, и вдруг ― «Лада Седан». Я люблю ее музыку, но не переношу ее как человека.
 © Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных синих, черных и желтых мазков, наложена черно-белая фотография человека, стоящего у стойки микрофона. Это Земфира. У музыкантки темные растрепанные волосы, одной рукой она держит микрофон, другой держится за отворот пиджака. Микрофон покрашен в желтый цвет.
© Иллюстрация Милы Новаковской / Изображение-коллаж. На цветной фон, состоящий из неровных синих, черных и желтых мазков, наложена черно-белая фотография человека, стоящего у стойки микрофона. Это Земфира. У музыкантки темные растрепанные волосы, одной рукой она держит микрофон, другой держится за отворот пиджака. Микрофон покрашен в желтый цвет.Теодор Адорно, немецкий социолог первой половины ХХ века, утверждал: «Не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас». Что касается музыкальных увлечений подростков, то это правда вдвойне. Музыка как нечто интимное и недогматичное позволяет многим людям ощутить себя понят_ой, она словно выражает ― точно и красиво ― всё то, для чего у юности пока нет слов.
Вряд ли из этого можно сделать вывод, что прослушивание каких-либо композиций имеет непреодолимый и одинаковый эффект на всех людей. Музыка открывает в человеке то, что он смутно ощущал в себе. Это не имеет ничего общего с гипнозом или рекламными ходами ушлых маркетологов. Музыка ― это искусство, и на ее территории голос автора/авторки встречается с сердцами и голосами слушателей/слушательниц. В каждом конкретном случае эффект уникален, и степень влияния определяется эстетической близостью, общностью опытов и соответствием текста принципам и ценностям человека, а вовсе не самим фактом звучания определенных тем и мотивов.
С годами привязанность к тем или иным исполнительницам/исполнителям может исчезать, однако их голоса всегда будут для нас символом чего-то робкого, страшного, нежного и невозвратимого. В текстах старых песен так много нас самих, что по их куплетам можно пропеть целые годы взросления.