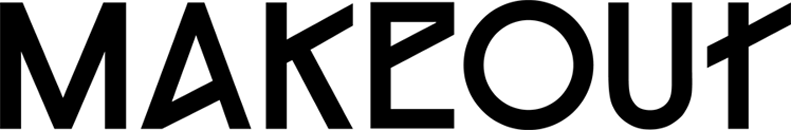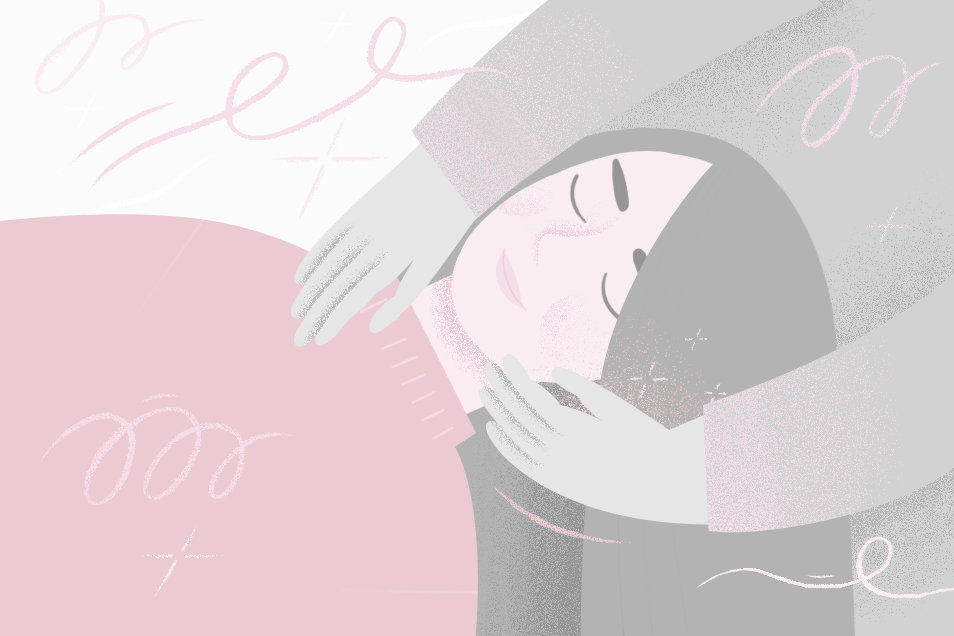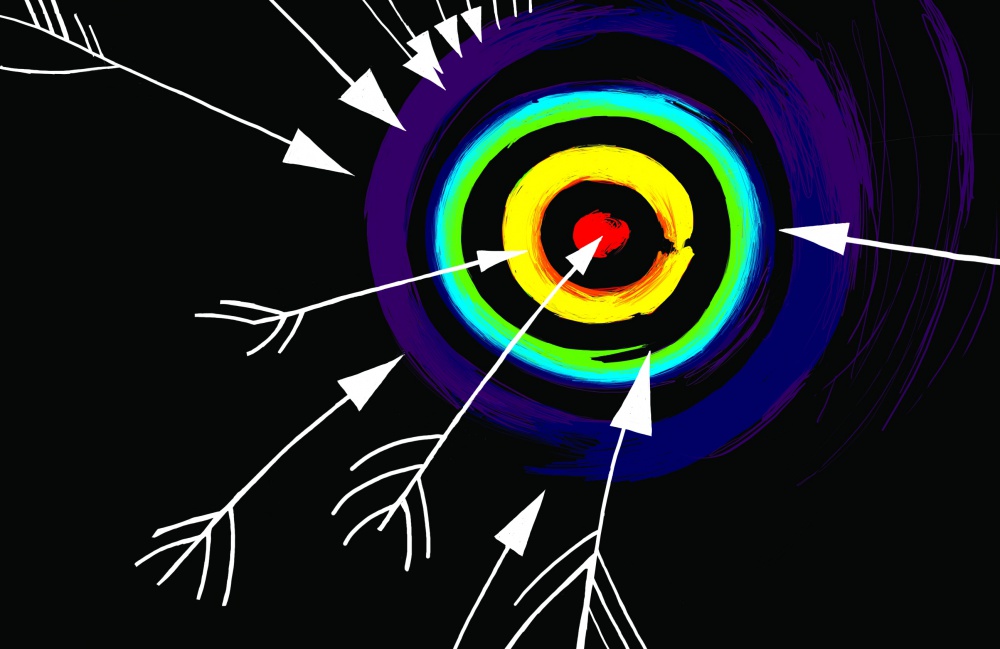Наши герои и героини вспоминают свой терапевтический опыт и пытаются ответить на вопрос: действительно ли для нас партнер_ка — единственная опора?
Предупреждение: текст может содержать триггеры — описания ситуаций, которые могут вызвать повторные переживания психологической травмы.
В Беларуси ЛГБТК с ментальными расстройствами редко могут позволить себе качественную психотерапию. Это подтверждает и консервативный подход государственных специалистов, и ценовой порог тех, кто имеет частную практику. Однако еще большей проблемой является эмоциональный риск, который испытывает пациент_ка, посещая сессии. Специалист может не увидеть за гендерной или сексуальной самоидентификацией реальное ментальное расстройство.
До того как гомосексуальность исключили из списка МКБ-10, она неизменно числилась в одном ряду с диагнозами, объединенными штампом «расстройства психики». Такое рассмотрение гомосексуальности удовлетворяло потребности уголовно-исправительной системы, а также членов гетеросексуального сообщества, надеявшихся на «чудесное выздоровление» своих соседей, коллег, детей и родителей.
Сегодня в нашем распоряжении — сотни исследований в защиту любой сексуальной идентичности. Те, с кого на медицинском уровне сняли стигму болезни, будто бы стали в один строй со всеми остальными людьми, которых медики осторожно называют «практически здоровыми». И если с точки зрения психиатрии и психологии аспект классификации ЛГБ-сексуальностей перестал существовать, то транссексуальность до сих пор находится в списке МКБ и именуется «транссексуализмом» во многих странах, включая Беларусь, Россию и Украину. Именно «транссексуализм» как диагноз, прописанный в сексологической карте «больного», становится основанием перехода для государственных институций.
Все героини и герои этого материала не только так или иначе объединены все еще существующей для условного привилегированного общества границей некоей «иной» сексуальности. И они не только находятся в отношениях, искренне готовы открыть значительную часть своей жизни и проживают на территории СНГ (преимущественно в Беларуси). Они каждый день просыпаются с дополнительным риском столкнуться с вербальным насилием — помимо гомо-, би- и трансфобии — и принудительной госпитализацией. Потому что об_е партнер_ки или один/одна имеют ментальное расстройство, варьирующееся от временного до хронического, от наследственного до приобретенного, от невроза до пограничного расстройства и психоза. Все эти пары согласились рассказать, как они живут под двойным прицелом и почему расходятся во мнениях о том, является ли партнер_ка единственной опорой в таких отношениях.
Каким образом между партнерами с ментальным расстройством (у одного или обоих) проявляется и устанавливается доверие
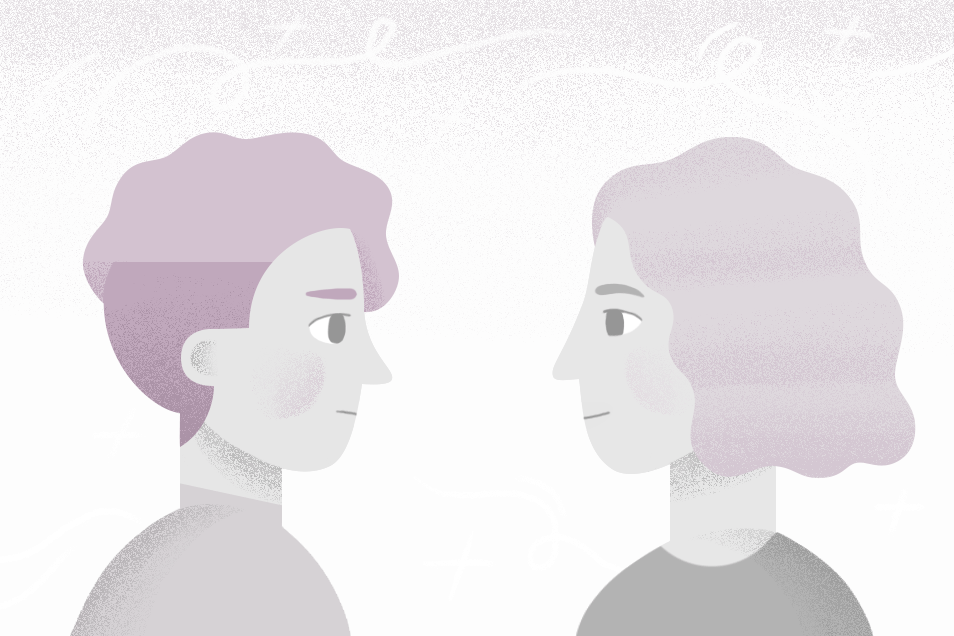 © Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне изображено два человека в профиль. Они вмещаются в кадр по грудь, смотрят друг на друга. Попеременно, то один то второй человек открывают рот, откуда выплывает облако, которое как бы окутывает голову другого человека.
© Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне изображено два человека в профиль. Они вмещаются в кадр по грудь, смотрят друг на друга. Попеременно, то один то второй человек открывают рот, откуда выплывает облако, которое как бы окутывает голову другого человека.Глеб и Женя
Женя: Я себя позиционирую как ФтМ-транссексуал, но не могу сказать, что чувствую себя бинарным транссексуалом. Скажем так, для учреждений, в которых я состою, приходится как-то конкретизировать. К примеру, в психдиспансере, где я на учете (Центр пограничных состояний — прим.ред.), когда общаешься с сексологами и с психологами, ты должен быть стопроцентно уверен, что ты настоящий представитель гендера, в который хочешь перейти. А о бинарности и небинарности они представления не имеют, поэтому приходится упрощать коммуникацию. Собственно, в нашей стране это уже считается психическим расстройством.
По действительному расстройству: у меня произошла довольно неприятная ситуация в 2015 году, с которой, собственно, расстройства и начались. Подозреваю, что у меня уже тогда была депрессия, но дело в том, что тогда я принимал барбитуратсодержащие седативные препараты. Я принимал их больше полугода и втащил себя в очень жесткую зависимость. До такой степени, что собирался обращаться в наркологию с этим. Подозреваю, это тоже как-то повлияло на мое состояние, потому что зависимости в принципе оставляют очень большой след. И у меня до сих пор проблемы со сном и выводящей системой, по которой это все прошлось. Пока я выбирался из зависимости, прочие психологические проблемы удалось отодвинуть на второй план. Состояние снова ухудшилось где-то в конце лета прошлого года. Осенью я лежал в больнице с заражением крови, и это был неслабый удар по здоровью: когда ты больше недели лежишь в горячке и почти полном отрыве от реальности.
Тогда все посыпалось: у меня начались проблемы с любой коммуникацией вне своей комнаты. То есть до такой степени, что я сначала думал, мол, это особенности моего характера. Я в принципе интроверт, но считал, что учеба на журфаке должна на это как-то повлиять. Одновременно я набирал музыкальную группу, и это просто огромная нагрузка: приходится разговаривать с незнакомыми людьми и притираться друг к другу, как в семейных отношениях. И не со всеми это проходило гладко. Мне нужно было как-то приезжать в универ, как-то налаживать контакт с редакцией, в которой я хотел бы получить место. Но для этого нужно показывать свой энтузиазм, а мне давали материалы, требующие бесед в незнакомой сфере и с незнакомыми людьми. И если в универе меня еще как-то поддерживала моя группа, то в остальных случаях я иногда просто не мог переступить порог кабинета.
Я не мог просыпаться с утра. Ни один кофе, ни один энергетик не могли меня поднять. Все что угодно доводило до реального физического страха, что тебе может кто-то навредить. Это все напомнило мне о времени, когда я был в терапии и прорабатывал травму. Я знал, что мне свойственна ретравматизация, и понимал, что нужно снова начать терапию. Я обратился к своей прошлой психотерапевтке, которая сказала, что может дать мне контакты коллеги-психиатра неофициально. Несмотря на то, что у большинства транссексуалов есть какие-либо расстройства из-за дисфории, в глазах официальных учреждений я должен быть чертовски здоров, чтобы что-нибудь доказать. Нужно демонстрировать стопроцентную уверенность в себе, а говорить официальным структурам, что у меня есть какие-то ментальные проблемы, — это ставить крест на комиссии. Я позвонил этому психиатру, прошел консультацию и узнал, что у меня классические признаки депрессии с повышенной тревожностью и навязчивыми идеями, что если это запустить, то уже не получится контролировать свое состояние без медикаментозного вмешательства. Я просто не смогу работать и учиться. Сейчас психиатр неофициально выписывает мне антидепрессанты. И это страшно все, потому что я, человек, который в этом нуждается, не могу получить их законным путем. Сейчас мое состояние немного лучше, чем четыре месяца назад. Тогда я бы из-за своего страха даже не приехал на интервью.
Глеб: Конечно же, я знаю о диагнозе, поставленном ему. Со многими проявлениями этого у Жени я сталкивался не раз. Особенно в начале наших отношений. К паническим атакам в транспорте из-за тесного контакта с людьми и постоянного пробуждения от кошмаров по ночам я довольно быстро привык, это происходило почти постоянно. Даже во время, когда, как мне казалось, ему было комфортно, например, за просмотром фильма у меня дома, все могло перейти в слезы и срывы, в такие моменты мне больше всего хотелось помочь ему, успокоить, но я был просто не в состоянии это сделать.
П. и К. (Санкт-Петербург)
П: Я не очень много знаю о том, что происходит с моей партнершей, потому что те два года, что длятся наши отношения, связаны с поисками врачей и ответов на вопрос, что с нами происходит. В том числе с нами произошла ужасная история, когда моя партнерша попала в психиатрическую клинику без своего согласия. Когда она была на приемах у врачей, ей ставили диагноз «депрессия», но это были только подозрения, поэтому у нее не было полноценного лечения. Позднее диагнозы разнились от шизофрении и шизоаффективного расстройства или биполярного расстройства с доминирующей депрессивной фазой. Судя по тому, что я видела и знала по нашим разговорам, это действительно похоже на БАР либо на хроническую депрессию, так как моя К. очень долго жила в очень абьюзивной среде до того момента, когда мы сбежали в другой город. В наших отношениях были и элементы селфхарма, но нам повезло пройти через это. Тем не менее есть другие проблемы: К. сложно анализировать свои чувства и понимать, как социально взаимодействовать с другими людьми: она несколько не адаптирована к социуму.
К: У П. биполярное расстройство первого типа. Изначально ей ставили диагноз «циклотимия», это было два года назад, когда она жила в Обнинске (город в Калужской области — прим. ред.). Мы потом поняли, что лечили ее не от циклотимии, а от очень сильного биполярного расстройства, прописывали лекарства, которые не сочетались друг с другом. У П. случались обмороки, выпадали волосы… П. с детства знала, что с ней что-то не так. Она просила родителей отвести ее к врачу, но они пытались убедить ее в том, что проблема в ней самой и ее плохом воспитании. Дошло до того, что на приемах у психолога П. заставляли повторять за мамой «истины» о том, что она плохой человек, доводя ее тем самым до истерики. А потом уже, классе в десятом, она сходила к школьному психологу, который направил ее к психиатру. Там и поставили диагноз «циклотимия». Ее посадили на седативные, из-за которых П. не ела, не выходила на улицу и не могла воспринимать текст. После переезда в Питер мы начали искать платных врачей, поскольку у нас не было даже временной регистрации, чтобы обратиться в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. ред.). Но платные врачи говорили, что все хорошо, и выписывали витамины. Потом мы нашли бесплатную клинику неврозов и там записали П. к врачу. П. сходила на прием, где ей сообщили, что было бы хорошо полечиться в стационаре, но она отказалась, так как ей было страшно оставлять меня одну.
Через некоторое время мы все-таки обратились в очень хороший ПНД на Васильевском острове. Там был замечательный специалист, который уделял внимание каждому. Этот специалист поставил ей биполярное расстройство и предложил поучаствовать в экспериментальной программе препарата, не лицензированного в России. И ей действительно стало лучше: скачки между фазами стали не такими резкими, П. стала лучше спать и меньше грустить. Но потом ей снова поплохело, а программа между тем подходила к завершению. И вот уже несколько месяцев у П. не менялись фазы, и мы хотели бы узнать, что с ней происходит. Может быть, это уже даже не биполярное. Самая главная проблема сейчас в том, что П. стала раздражительной, ей очень трудно вставать с постели и коммуницировать с людьми. Дошло до того, что ей кажется, будто она все выдумала. Я стараюсь помочь ей и объяснить, что такое выдумать невозможно. Сейчас мне очень страшно оставлять ее одну, потому что у П. проявилась повышенная тревожность: она боится каждой тени и хочет навредить себе.
Анна и Лидия
Анна: У моей партнерши пограничное расстройство личности. И я могу пересказать статью в Википедии на трех языках и сказать, на какой странице в учебнике по психиатрии находится нужный раздел, если понадобится без прикрас его описать. Момент, когда я узнала о нем, зависит от того, с какого диагноза вообще вести отсчет (раньше у Лидии диагностировалось генерализованное тревожное расстройство). Если опираться на итоговое заключение психиатра, то прошел уже почти год. То есть большую часть наших отношений она проходит медикаментозную и гештальт-терапию, но никогда не находилась на стационарном лечении. Если посчитать меня, ее сестру, двух терапевток и психиатра, то уже набирается пять человек, знающих о расстройстве. Наверное, еще плюс пять-шесть человек из дружеского окружения, может, чуть меньше. Это не афишируется.
Что касается того, считаю ли я себя «экстренным контактом», то я могу потешить свое самолюбие и сказать: «Ну да, конечно, кому еще она может позвонить». На деле же узнать, кто является контактным лицом, можно только у самого человека. Ну, или посмотрев в договор, заключенный с медстраховкой. Но страховки у нее нет, а значит, официально доверенного лица тоже нет. В этом случае доверенным лицом может быть либо ее мать, либо супруг.
Ментальное расстройство Лидии я восприняла спокойно. Как данность. Даже триумфа от верного предположения не было. Были просто ее глаза. Уставшие от всего глаза девушки, которая кажется старше, серьезнее и «нормальнее» своих лет. И ее дайри. Тег с диагнозом говорил сам за себя. Хотя первоначально за всем этим я пропустила в ней лесбиянку.
Лидия: Диагноз Анны на сегодняшний день не подтвержден. Примерно с шестнадцати лет он переходил для нее из синдрома Аспергера, который ей — что для меня удивительно — поставила школьная психологиня, в шизофрению, тревожное расстройство и БАР. Последним заключением стало мнение психиатра из РНПЦ ПЗ, который заявил, что все происходящее с ней — это уже черты характера, не поддающиеся терапии. Мы прошли через последние диагнозы, но о первых я узнавала очень медленно. Анне не свойственно на первом же свидании рассказывать о себе все то, что приносит боль. И на втором, и на третьем, и через недели отношений. Для меня это был путь последовательных открытий. Сейчас Анна принимает антидепрессанты, прописанные неврологом, и готовится к терапии, уговорить на которую ее было слишком тяжело, чтобы подробно рассказывать. Но, так или иначе, мои открытия постепенно меняли мое отношение: из бдительной и аккуратной в общении я становилась человеком, который делал скрины сообщений с ее особенностями и «чертами характера» и подписывал их «помни об этом, пожалуйста». (Они хранятся у меня до сих пор.) Но я никогда не принимала мысль о том, что можно маркировать ее как ментально больную и держать на поводке.
Опыт терапевтических отношений и стационарного пребывания
 © Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне нарисованы две руки до запястья. Снизу — левая, нежно-сиреневого цвета, повернута ладонью вверх. Сверху — правая, нежно-розовая, вложена в ладонь нежно-сиреневой. На руках возникают, двигаются и исчезают белые волнистые линии, обозначающие движение. Вокруг появляются и исчезают светло-фиолетовые искорки и спиральки.
© Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне нарисованы две руки до запястья. Снизу — левая, нежно-сиреневого цвета, повернута ладонью вверх. Сверху — правая, нежно-розовая, вложена в ладонь нежно-сиреневой. На руках возникают, двигаются и исчезают белые волнистые линии, обозначающие движение. Вокруг появляются и исчезают светло-фиолетовые искорки и спиральки.К: После того как П. сходила к врачу, я решила тоже сходить, но к психотерапевту. Попала на платный прием, и там мне сказали, что нужно срочно ложиться в больницу. На тот момент я уже долго не принимала антидепрессанты и чувствовала себя плохо. Я хотела согласиться, потому что это была клиника открытого типа: можно было уходить домой на выходных, выходить на улицу, приглашать друзей, там даже есть интернет и кружки по интересам. Наступил день, когда я все это сделала и пришла обратно в клинику. На приеме рассказала о своих симптомах. Я тогда очень сильно похудела: весила 39 килограммов. Но самое главное, что я сделала, — сказала, что у меня есть мысли о самоубийстве. Я даже пыталась это сделать в 2015 году. Но тогда не понимала, что от но-шпы ничего особо не случится. Хотя думала, что съем таблеток двадцать, и со мной хоть что-то произойдет. Но у меня было лишь помутненное сознание и психосоматическая боль в теле.
Эта боль была постоянной, и я знала, что нужно обратиться к врачам в Петербурге, пока не начала разрушать себя. Они дважды просили меня выйти и войти обратно в кабинет, подтвердить свои слова перед другим врачом. Потом сказали, что их клиника «не для таких экстренных случаев» и на неделю меня отправят в закрытое учреждение, а потом вернут сюда. Предупредили, что сделают мне укол. И я даже не заметила, как это произошло и сколько кубиков феназепама было в шприце. Дальше появились два бритоголовых амбала. Один взял мою сумку, а другой подхватил меня под руку и так повели к выходу. Меня посадили в обшарпанный уазик и везли куда-то долго-долго.
П. все это время до госпитализации была со мной, но после ей нужно было уехать на учебу. Мне же в тот момент очень не хватало здравой оценки со стороны. Я уже не помню этого, но П. рассказала, как просила хотя бы минуту встречи со мной. Но она успела сказать всего несколько слов, прежде чем меня увезли. Я помню, что доставили меня уже под вечер. Там, в учреждении, мне дали подписать какие-то документы, говорящие о согласии содержаться у них сроком до полугода. Я все еще была под препаратом и не могла контролировать происходящее. Подписала. Потом у меня забрали телефон, деньги, все мои вещи, паспорт. Оставили только зубную щетку и белье. Помню еще, что меня переодели в какую-то потертую серую рубаху. И пока в общей спальне кто-то расстилал мне постель, рядом подсела женщина и стала рассказывать, что у нее шизофрения. Она в этом месте была уже полгода, но на следующий день ее обещали выписать. Помню, она просила меня сделать все, чтобы не задерживаться здесь надолго и дать ей номер кого-то из моих близких «на свободе».
Следующие несколько дней вытерлись из моей памяти, потому что мне снова делали какие-то уколы. А потом пришла докторка — высокая, с короткой стрижкой, поначалу даже показалась приятной — и стала спрашивать про клинику неврозов и курс антидепрессантов, который я принимала в Москве. Я спросила, когда меня выпишут, но после этого вопроса она сразу же ушла и исчезла на несколько дней. Фактически, я не могла там ничего делать: у меня отобрали даже очки (а зрение -7), не давали книги, да и ходить мне было некуда. Еще через пару дней меня перевели в другую палату.
Система там выглядит так: в первой палате находятся все, кого только привезли (включая алкоголиков, наркоманов), и кто «наказан» за поведение в больнице, вторая палата — для встреч с психологом, остальные — для стационара. Через пару недель после госпитализации мне дали очки и книгу по истории искусства. Я старалась читать ее очень медленно, ведь в библиотеке отделения из приличного был только «Мартин Иден».
Так, проспав по шесть-восемь часов в день, просмотрев в окно все остальное время, я провела в больнице в общей сложности полтора месяца. Там же я познакомилась с профессоркой философии. Мы вместе делали зарядку и смотрели телевизор (чаще всего показывали религиозные программы, реже — новости, хотя мы и так были отрезаны от мира). Когда мне сказали, что после зимних праздников выпишут, я так радовалась, как не радовалась никогда. Я думала о подготовке к поступлению, строила планы… А после выписки узнала от П. обо всех письмах и посылках, которых мне не принесли, о том, как П. не информировали о моем состоянии.
Для меня устроили встречу с плакатом и новостями о жизни на свободе, и я подумала, что дальше все будет хорошо, хотя продолжала испытывать страх, терялась на улицах, шарахалась от шумов. После этой истории я хотела рассказать миру о том, как, например, одну девушку родители положили в больницу из-за ее ориентации, как пациентов бьют и не дают общаться с родственниками, как все это было со мной.
Женя: К решению пойти на терапию подтолкнули друзья. До этого я уже посещал группу поддержки для ЛГБТ, которую вела ранее существовавшая «Идентичность», и в ней познакомился с моей будущей психотерапевткой. Собственно, тогда же я узнал, что в Беларуси есть люди, которые занимаются ментальным здоровьем именно ЛГБТ+. Идти со своими проблемами к кому-то другому мне было страшно, а лучше не становилось. Мои друзья, немного понимающие в «теме», предположили, что это травма и с ней нужно работать. Позже психотерапевтка сказала мне, что может оказать помощь бесплатно в краткосрочном режиме.
Как она потом объяснила, я проходил через ДПДГ (метод, который применялся для работы с ветеранами Вьетнамской войны, десенсибилизация с помощью движения глаз — прим. ред.). Это было кошмарно: однажды я швырнул табуретку в стену ее комнаты, и это был еще довольно легкий вариант, потому что за счет своей беспричинной агрессии я мог подпортить ей куда больше мебели. Это было жутко даже в физическом плане: после терапии мне было физически трудно идти домой. Но со временем это помогло. Наверное, так мне и нужно было работать. Правда, все мои травмы в краткосрочной терапии все равно закрыть было нереально.
Мне всегда было проще понимать психологическое через объяснения, поэтому после каждой сессии психотерапевтка объясняла, что это все значит на ее языке. Так мне было проще вникнуть в то, что происходит. То есть понять, что это работает на механизмах психики, что это не проблема меня как человека, а проблема меня как организма. Хотя я приходил туда с мыслью, что мне это стопроцентно не поможет: мне с детства привили очень беларусское отношение к психотерапии: мол, это у американцев так принято, что у тебя есть терапевт, у которого есть терапевт. А здесь у тебя есть подружка, бутылка водки и разговоры «за жизнь». И мне было сложно понять, что терапия — это ни разу не разговоры по душам.
Еще дело в том, что от психдиспансера я свою ориентацию скрываю, в отличие от общения в сети. Я знаю, что от информации в интернете я всегда могу отпереться. Хотя, честно говоря, это унизительно. Но, с другой стороны, знаю, что не я первый, не я последний. Гомосексуальность у транссексуалов юридически и медицински воспринимается как противопоказание, что само по себе ставит меня в абсолютно идиотскую ситуацию. В феврале мне снова на прием, и я снова буду рассказывать про свои отношения с партнеркой. Мы даже условились с Глебом, что он у нас будет Кристиной.
Анна: Первые терапевтические отношения прервались, потому что это была психологиня в школе, а в школах есть правило: если ученик подает тревожные звоночки, можно нарушить конфиденциальность и проинформировать классного руководителя или родителя. Определенный момент моей терапии был рассказан человеку, который не должен был этого слышать. Тогда терапия прервалась даже не на середине, и это сказалось на мне достаточно тяжело. Вторая терапия была инициирована не мной, а моей матерью, которая стала подозревать у меня шизофрению. Я ходила к гештальт-терапевтке из государственной клиники, однако терапия завершилась, потому что психиатр, который приглашался ею со стороны для подтверждения диагноза, сказал, что медицинская помощь не нужна и что все происходящее — это черты характера и не повод для терапии в принципе.
Мнение о партнерской поддержке как единственной психологической опоре в среде дискриминации ЛГБТК+людей с ментальными расстройствами
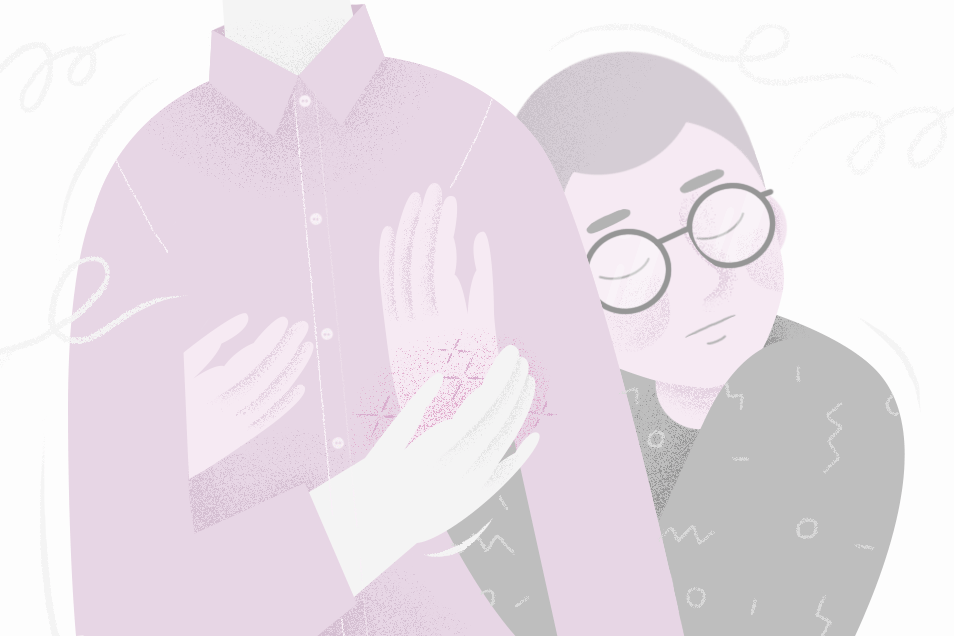 © Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне изображено два человека: левый — от пояса до середины горла, одет_а в светло-фиолетовую рубашку; правый — полностью в кадре, у не_е короткая стрижка, круглые очки, светло-серый свитер, глаза закрыты. Правый человек прислоняется к левому плечу человека слева, приобнимая е_ё сзади. Человек слева положил правую руку на левую руку человека справа. Вокруг руки пульсируют искорки.
© Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне изображено два человека: левый — от пояса до середины горла, одет_а в светло-фиолетовую рубашку; правый — полностью в кадре, у не_е короткая стрижка, круглые очки, светло-серый свитер, глаза закрыты. Правый человек прислоняется к левому плечу человека слева, приобнимая е_ё сзади. Человек слева положил правую руку на левую руку человека справа. Вокруг руки пульсируют искорки.П: Если мне нужно сказать категорично, то, безусловно, не единственная поддержка. Есть друзья, знакомые, семья. В ЛГБТ-сообществе всегда можно найти человека, который может просто выслушать. Но этот круг очень ограничен, от многих приходится многое скрывать (П. и К. в отношениях три года).
«Сужение круга общения до одного партнера — это шаг к созависимости»
Когда ты относишься этим к двум сообществам (mental disorder и ЛГБТ), вас сталкивает с партнером еще сильнее. Вы становитесь еще более изолированными, так как только ему ты можешь максимально доверять. А если партнеру плохо, ты остаешься один.
К: Я старалась опираться на саму себя раньше. Мне кажется, что это не очень распространено. По крайней мере, среди людей, которых я знаю, но, конечно же, я не могу говорить за все сообщество. Вела дневник, потом на него стали подписываться люди, мы с ними стали общаться. Так я пыталась сама себя поддержать, когда даже еще не было П.
Глеб: В итоге — да, кто, если не здоровый партнер или партнерка? Думаю, он или она в итоге и является тем самым человеком, который видит все проблемы, видит человека без масок, как иногда не видят друзья. Он может быть тем самым, кто окажет ту помощь. Даже лучшие друзья все равно не так близки.
Лидия: В условиях того, как часто ЛГБТК+ сталкиваются с чрезвычайно нетолерантными психотерапевт_ками и психиатр_ками, я думаю, что мы можем так говорить. К сожалению, мы все еще живем в странах, где нужно издать книгу о том, как сотни подростков и взрослых выгоняли из дома родители за их ориентацию, чтобы хоть минимальный процент «дающих жизнь» взялся за голову. Что уж говорить о том, чтобы трансгендер_ка или асексуал_ка подошли к матери и сказали, что у них, кажется, есть проблемы ментального характера. Мне хочется сказать так: партнер или партнерка действительно становятся фактически единственной опорой, но не единственной информационной. Как и мой психиатр, я уверена, что чтение хороших книг о расстройствах повышает вашу уверенность в том, что вы вообще знаете, с чем столкнулись. И это придает сил.
Созависимость и абьюз как (не)оправданный риск в отношениях с ментально больными партнер_ками
К: Мы очень часто не можем контролировать агрессию. Можем сказать какую-то колкость или накричать друг на друга. Или когда мы куда-то опаздываем, а П. медленно собирается, я могу начать ее торопить, хотя знаю, что быстрее от этого не станет. И ее это очень ранит, а я почему-то не думаю никогда, какие последствия будут у моих действий. Но всячески стараюсь научить себя думать, прежде чем сказать что-то П.
П: Заботясь о своей партнерше, я понимаю в какой-то момент, что перестаю давать ей свободу. Я не пытаюсь контролировать ее, но на подсознательном уровне слежу за всем, что с ней происходит. Мне важно знать, что она прочитала сегодня в Твиттере, что написали ей друзья. Травмирующий опыт, который происходил с нами, привел к тому, что сейчас мне страшно не заметить что-то, что может произойти с ней. Более уродливая часть этого мнения выглядит так: мы действительно не можем ничего делать друг без друга. По одиночке мы совершенно не можем делать ничего. Вероятнее всего тогда все оказывается так: мы просто ложимся спать, если находимся вдалеке друг от друга.
Бывают моменты, когда я осознанно манипулирую партнершей. Заставляю прочувствовать что-то сильнее, чтобы подвести к мысли. Или обманываю и не говорю о своем самочувствии. И иногда я могу делать что-то, что вызывает у партнера злость. К. ненавидит, когда ее щекочут, но я все равно это делаю. Я как будто ее не слышу, пока она не начинает плакать или кричать. Я просто не знаю, зачем я это делаю.
Женя: Несколько раз Глеб позволял мне резать его. Не то чтобы это было необходимо. Я даже не знаю, как мы пришли к этому эпизоду, но это было важно для нас обоих. Я ни в коем случае не имею в виду, что так нужно делать всем. В какой-то мере для нас это было большим выбросом эмоций, необходимым облегчением. Возможно, мы к этому еще вернемся. Я не говорю, что это правильно. Но иногда это нужно нам обоим — не только мне. Я хочу, чтобы отношения не были зависимыми. Хочу, чтобы у него были границы, чтобы он мог не впускать меня куда-то, а у него эти границы настолько отсутствуют, что он готов пускать куда угодно. Зная, что я могу причинить ему вред, я хочу, чтобы он эти границы оставлял. Чтобы у него осталось что-то свое, если отношения окажутся слишком тяжелыми для нас обоих. Я бы хотел, чтобы он оставался цельным, чтобы его не приходилось ставить на ноги, как пришлось ставить меня.
Глеб: В каком-то плане я действительно зависим от него, я просто не могу нормально чем-то заниматься, если сомневаюсь в том, что у него сейчас нет каких-либо проблем. На самом деле это не здорово, мне уже пора научиться проводить время без него, ведь с его состоянием произошли положительные изменения.
Анна: Я в принципе бываю зависима от людей. Иногда это совершенно незнакомый мне человек, иногда кто-то очень близкий. Мне трудно отпускать людей. И чем глубже отношения я завожу, тем труднее мне в итоге. И причина не в любви, и не в пограничном расстройстве Л., а в моих собственных проблемах.
Мысли о боязни «терпения» расстройства и мнения о том, что партнерство должно или может вас излечить
Женя: Знаешь… Если ты хочешь найти человека, который станет для тебя партнером во всех отношениях, то, наверное, стоит обращать внимание на то, чтобы эти отношения тебя «лечили». Потому что в противном случае они уже не здоровые. Для меня это важно, потому что со своей ретравматизацией я не могу отделить реальную симпатию от своих представлений о человеке. Я правда хочу, чтобы мои отношения были «здоровыми», спокойными. И просто хочется иногда, чтобы это выглядело так, как у всех. Как это происходит в сериалах, у друзей. Но даже если бы я был абсолютно здоров, наши отношения изначально не принимаются обществом, так что вряд ли было бы «как у всех».
Про терпение расстройства. За все эти месяцы у меня часто возникло ощущение, что я все же доведу его до черт знает чего. Господи, найти бы ему нормального человека. Для него это в принципе первый опыт отношений, и когда я говорю что-то о своих прошлых связях, ему тяжело это слышать. У меня до сих пор остается страх, что однажды я перегну палку, и он устанет. В такой ситуации я задаю себе вопрос: а сам бы я выдержал? Не уверен. Это не зависит от личных качеств человека, но зависит от выдержки. Я вижу, что Глебу тяжело со всем этим справляться, и не хочу отравлять ему жизнь так, как отравляю сейчас. Я понимаю, что он делает это безвозмездно и зачастую поддерживает меня больше, чем я его. И я просто так, без знаменательных дат, стараюсь сделать что-то, чтобы его жизнь стала лучше. Наверное, одна из причин, почему я это делаю, — желание не чувствовать себя виноватым и не думать, что я втянул его в такие тяжелые отношения.
К: Если честно, пока ничего не помогает (прекратить думать о «терпении» — прим. ред.). Но мы стараемся как можно чаще говорить друг с другом, когда возникают какие-то сомнения. Не надоедаешь ли ты, не бесишь ли. Почаще делайте что-то вместе и говорите, как любите друг друга.
П: Мне кажется, настоящим выходом является только разговор друг с другом. Мне помогает терпеливо говорить партнеру, за что ты его любишь. Это очень сложно препарировать, но ты находишь хоть какую-то черту, за которую ты его особенно любишь. И не будет так сложно описать ему это.
Глеб: Все-таки депрессия — это заболевание, и лечить его надо не разговорами по душам, а медикаментозно. Так что я могу только оказывать ему поддержку и надеяться, что на фоне препаратов все действительно станет хорошо. Но одни только антидепрессанты не исправят ситуацию. Я просто невероятно рад тому, что могу быть способен что-то изменить. Я читал кое-какие статьи и правда пытался войти в его положение. Так что хотя бы эмпатией он не обделен.
Анна: Мне кажется, что подобные мысли посещают каждого человека рано или поздно. Разница лишь в частоте их появления и в степени серьезности отношения к ним. Я не могу сказать, что постоянно жду «подвоха» со стороны своей партнерши. Скорее подобное периодически «выстреливает», нашептывается только мне слышимым голосом и не особо зависит от ситуации. Даже во время мелких дрязг или больших скандалов, которые выбивают тебя из колеи, когда складывается ощущение, что все вокруг вас стремительно рушится, у меня сохраняется уверенность в искренности ее слов. Если бы она хотела уйти, она бы ушла, верно же? Моя партнерша может придерживаться двойных стандартов, иногда лицемерить, но она не лгунья. По крайней мере, я надеюсь, что она скажет, когда любовь как составляющая исчезнет из этих отношений.
Советы героев и героинь по поддержке ментально больных партнеро_к*
*все советы основаны на личном опыте и не могут являться универсальными или профессиональными
П: Первым приходит в голову совет наладить отношения между партнерами. Чтобы каждый из мог искренне сказать, в чем он нуждается. Даже если ты чувствуешь, что партнер меняется... Например, я зачастую могу очень агрессивно вести себя. Важно помнить, что человек рядом с тобой — это тот, кого ты любишь. Важно помнить, через что вы проходили ранее. Важно помнить, какой личностью является человек. Нельзя приравнивать его расстройство к его личности. Как можно больше литературы читайте на эту тему, каналов в Телеграме, статей в соцсетях. Так намного легче найти способы реакции на все это. Нужно помнить, что ты никогда не один.
И еще документируйте то, что происходит! Многие люди после подобных переживаний имеют проблемы с памятью. А записи помогут вам структурировать и анализировать прошедшее в тяжелые времена. Не пытайтесь соревноваться с партнером в тяжести болезни, не пытайтесь делать вид, что вы не болеете, когда болеете. Это серьезно навредит отношениям.
К: Самое главное — не забывать о том, что вас очень любят. Помните и верьте, что вас сильно любят. Я так продержалась столько времени в больнице: каждый день думала о том, как живет П. и тискает нашего кота, как она умывается. Еще важно позволять себе иногда быть слабым. Важно показать, что ты нуждаешься в помощи и заботе, даже если вы не терпите помощи и мгновенно забываете советы. И постарайтесь не бояться своего врача, задавайте ему побольше вопросов.
Глеб: Банально пытаюсь оказать любую поддержку. Как психологическую, так и материальную. Стараюсь ограничить от каких-либо факторов, способных спровоцировать проявления депрессии. Простой пример: когда он начинает паниковать в переполненном транспорте, я пытаюсь оградить его собой от других людей, взять за руку. В целом поддержка и складывается из таких мелочей.
Женя: Лет в двенадцать я начал придумывать вселенную со своими фэнтезийными законами, где у меня были хорошие друзья. Гендерно комфортную вселенную. Иногда я рассказываю ему про нее, и мне становится легче. Еще мы очень часто можем наигрывать что-то в присутствии друг друга, и это очень помогает. Глеб знает, как сильно музыка помогает мне.
Лидия: Анна старается задействовать все, что может мне помочь. Поэтому для меня основным советом станет просьба не бояться пробовать новые способы (безопасные!) и спрашивать партнера о его желаниях, даже если он «партизан». Мне серьезно помогают абстрагироваться от тревоги и боли фантазии сказки, сочиняемые Анной или нами обеими в процессе. Так появилась Собачья страна, например. Фантазировать — безболезненное занятие и, что главное, может использоваться на любой вкус.
Мнение сертифицированной гештальт-терапевтки Юлии Завгородней
 © Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне нарисованы две руки до запястья. Снизу левая, нежно-сиреневого цвета, пальцы направлены вверх вправо по диагонали. Сверху правая, нежно-розовая, пальцы направлены вниз влево по диагонали. Вокруг нижней руки — движущийся волнистый контур.
© Иллюстрация Nollaig Lou / Гиф-изображение. На белом фоне нарисованы две руки до запястья. Снизу левая, нежно-сиреневого цвета, пальцы направлены вверх вправо по диагонали. Сверху правая, нежно-розовая, пальцы направлены вниз влево по диагонали. Вокруг нижней руки — движущийся волнистый контур.Почему так мало психотерапевтов ЛГБТ-френдли
Сегодня беларусское психотерапевтическое гештальт-сообщество старается маленькими шагами идти к тому, что нет какой-то «правильной» ориентации. Есть человек — такой, каким он к нам пришел. Вопрос в том, сможет ли конкретный терапевт помочь конкретному клиенту. Ведь если мои границы говорят: «Нет, я не могу тебе помочь», — то я посоветую кого-то, кто может. Кто-то говорит, что не работает с людьми с инвалидностью, или с гомосексуальными людьми, или с семейными парами. Очень важно на первых встречах это прояснить. Профессионал абсолютно нормально воспримет прояснение коммуникации. И точно так же важно принять, что специалист может тебе сказать: «Нет, я не могу». И не потому что ты «не такой», «плохой», просто он будет тебе бесполезен.
О мнении «партнер — единственная психологическая опора в среде не всегда доступных или толерантных специалист_ок»
Можем говорить и так. И, наверное, говорим, но говорим не как о норме или о том, к чему стоит стремиться. Для того чтобы лечить любую травму, нужна все-таки профессиональная помощь, которую не даст партнер. Ты можешь поддерживать, защищать, радовать — все это важно, чтобы человек мог раскрываться, чтобы мог выражать свои чувства. Это правда помогает, но не лечит. А для того, чтобы лечить травму (травмы), нужна профессиональная помощь и значимый Другой. Тот, которым может быть психотерапевт.
Об этом сейчас пишут многие источники: в детский, подростковый период, когда нужен взрослый, который скажет, что все окей, все хорошо, его нет. Камин-аут — это огромное решение и происходит гораздо позже, чем эта поддержка нужна. А такая поддержка необходима. Пускай это будет тренер, учитель, тот, кто тебя посадит и будет говорить, что все в порядке, выжить можно. Если ты упустил этот момент, нужно все равно вырабатывать этот навык с другим значимым взрослым. Не все идут к терапевту лечить предполагаемые неврозы и психозы. Кто-то нуждается в том, кто авторитетно тебе скажет, что все хорошо.
Как мы можем помочь своему партнеру/партнерке, находящимся в состоянии ментального расстройства
Очень важно в паре (как и в любых других отношениях) иметь возможность получать поддержку и близость — звонить друг другу, быть на связи, разговаривать по душам. Это становится вдвойне важным, если тебе очень и очень плохо. Ты должен быть готов открываться сам и принимать другого открытым. Даже если это значит, что в депрессии твой партнер просто не может встать с постели и причесаться.
Я в любой сложной ситуации задаю себе вопрос: «Представь себе, что так (плохо/неудобно) будет всегда — ты готова с этим жить?». И тогда ты говоришь себе: «Я готов, потому что, кроме плохого, есть вообще-то еще это, это и это. Хорошее». И вот тогда находятся силы с этим быть, опираясь именно на позитивное, на осознавание того, что оно есть и для меня важнее всего остального.
Побольше думать о том, что хорошего вас связывает. Потому что если ты как жертва принимаешь решение быть с человеком, потому что ему хреново, — это знак, что нужно уходить. Но если ты знаешь, что есть еще тонны хорошего и помнишь об этом, это помогает.
О том, что делать партнеру, если у него есть накопившиеся негативные эмоции, которые могут привести к абьюзу с партнером
Разбираться с собой, конечно, необходимо. Ты не всегда можешь помочь. Скорее всего, если у человека ментальное расстройство, ты вообще не можешь помочь. Сможешь, если будешь сама стабильна и устойчива. А для этого нужно идти в терапию и разбираться со своими накопленными чувствами. Даже ментально здоровому партнеру.
И еще важно принять «принятие». Научиться смиряться с состоянием других людей. То есть когда партнер говорит, что ему плохо, не бросаться говорить, что солнце встало, погода хорошая, мол, да перестань, все будет нормально. Не убегать от его проблем, а быть готовым просто быть рядом, не помогая. Иногда самое лучшее, что ты можешь сделать, — это ничего не делать. Но не убегать и не уходить. Если все хреново, то там не только партнер. Ты в этом «хреново» тоже есть. И если сегодня от этого убежать, то завтра оно может накопиться и накрыть с головой.
Как понять, что терапевт будет безопасным для тебя?
Только прямо задав вопрос: «А сможем ли мы работать?». То есть да, нужно рассказать о своей ориентации, о том, кто знает и не знает о тебе. У нас ведь как-то не принято прямо спрашивать об отношении к себе, и это правда сложно. Но если ты сможешь задать прямой вопрос, то прогресс будет быстрее. Ты по реакции терапевта уже поймешь, может тебе быть полезной такая терапия или нет.
В терапии нет слова «больной» в отношении клиентов. Человек с ментальным расстройством, пришедший к нам на прием, — это клиент. В целом, вопросы безопасности, конфиденциальности, если человек обращается к частному терапевту, — база психотерапевтического кодекса. В норме должно быть так: все остается между терапевтом и клиентом. Неважно, идет речь о сексуальности клиента, о ментальном расстройстве или о других темах, которые присутствуют в терапии. Это профессиональная тайна.
Стремясь разобраться в том, как чувствуют себя ЛГБТК+ пары в отношениях, где у кого-либо есть ментальное расстройство любого типа, пытаясь осознать то, как они подвергаются дискриминации, мы выпускаем из вида не менее важный факт: ментальное расстройство нередко становится в нашем восприятии и описании романтической метафорой, как стали в свое время рак и туберкулез в эссе Сьюзан Зонтаг («Болезнь как метафора»). Тем не менее важно помнить, что это реальная проблема, с которой сталкиваются люди, боясь быть непонятыми близкими, коллежанками и коллегами, начальством... Ментальное расстройство часто невидимо для окружающих и потому нередко даже не выходит за рамки обсуждения в партнерских отношениях.
Наши герои и героини пытались смело рассуждать о своем положении, делать видимым то неудобное и опасное, что не просто прячется от всех, но и может стать поводом осудить работоспособность, здравомыслие и, что очень важно для них, гендерную и сексуальную идентичность.