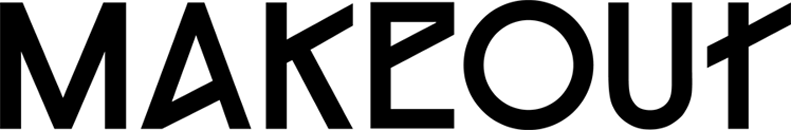28 лет
Когда я привела Олю домой в качестве своей подруги, родители с ней общались на равных — сами ее приглашали за стол, когда ужинали. Никто ничего не знал.
Однажды я в эйфории пришла домой, и прямо казалось, что если я поделюсь своими эмоциями, чувствами, то меня сразу же все поймут, скажут: ну, ладно, дочь. И я пришла, сказала — вы знаете, я ее так люблю! Полетели ножи. В прямом смысле. У меня очень жесткий папа, мама очень сильно начала болеть после этого.
Меня контролировали, буквально пытались водить за ручку, из дома не выпускали. Доходило до абсурда, когда, например, мама говорила: опять ты к этой пойдешь? Никуда ты не пойдешь! Она выходила за мной и шла следом, преследовала, и тогда мне приходилось в прямом смысле убегать. Ходить под присмотром — это было странно.
В тот момент появилось осознание, что самые близкие люди абсолютно не близки тебе. Я поняла, что я в этом одна. Мне как человеку, очень привязанному к дому, к семье, пришлось себя перестраивать — понимать, что есть они, а есть я — отдельно. Мы не разговаривали с ними очень долго, вот просто, находясь в 4-х стенах, никак не контактировали.
Я понимала, что никогда не смогу прийти к своим родителям, поставить торт на стол, сказать: вот, дорогие родители, я больше с вами не буду жить, мы нашли жилье. Нужно было обязательно уходить через какую-то ссору, потому что так понятнее, так привычнее в нашей семье.
В какой-то момент так получилось. Мы поссорились с папой, и он сказал: «Вон из дома».
Я ушла. Мне хотелось личной свободы, чтобы я могла принимать решения, жить свободно — без скандалов, без постоянных упреков, как на вулкане. Я понимала, конечно, что можно вернуться, опустив голову, сказать — я была неправа, пусти меня обратно. Хотелось так сделать, очень хотелось, потому что я привыкла, что у меня там дом, что там все мое. Но подумала, что нет.
И, мне кажется, сделала правильно, потому что уже 6 лет живу с Олей. Мы с родителями видимся раз в неделю, я к ним приезжаю, у нас замечательные отношения, пока не касаемся каких-то таких тем.
Однажды я в эйфории пришла домой, и прямо казалось, что если я поделюсь своими эмоциями, чувствами, то меня сразу же все поймут, скажут: ну, ладно, дочь. И я пришла, сказала — вы знаете, я ее так люблю! Полетели ножи. В прямом смысле. У меня очень жесткий папа, мама очень сильно начала болеть после этого.
Меня контролировали, буквально пытались водить за ручку, из дома не выпускали. Доходило до абсурда, когда, например, мама говорила: опять ты к этой пойдешь? Никуда ты не пойдешь! Она выходила за мной и шла следом, преследовала, и тогда мне приходилось в прямом смысле убегать. Ходить под присмотром — это было странно.
В тот момент появилось осознание, что самые близкие люди абсолютно не близки тебе. Я поняла, что я в этом одна. Мне как человеку, очень привязанному к дому, к семье, пришлось себя перестраивать — понимать, что есть они, а есть я — отдельно. Мы не разговаривали с ними очень долго, вот просто, находясь в 4-х стенах, никак не контактировали.
Я понимала, что никогда не смогу прийти к своим родителям, поставить торт на стол, сказать: вот, дорогие родители, я больше с вами не буду жить, мы нашли жилье. Нужно было обязательно уходить через какую-то ссору, потому что так понятнее, так привычнее в нашей семье.
В какой-то момент так получилось. Мы поссорились с папой, и он сказал: «Вон из дома».
Я ушла. Мне хотелось личной свободы, чтобы я могла принимать решения, жить свободно — без скандалов, без постоянных упреков, как на вулкане. Я понимала, конечно, что можно вернуться, опустив голову, сказать — я была неправа, пусти меня обратно. Хотелось так сделать, очень хотелось, потому что я привыкла, что у меня там дом, что там все мое. Но подумала, что нет.
И, мне кажется, сделала правильно, потому что уже 6 лет живу с Олей. Мы с родителями видимся раз в неделю, я к ним приезжаю, у нас замечательные отношения, пока не касаемся каких-то таких тем.
2014